Часть 2
Война. Эвакуация
1941-1943
“
Война не только много разрушила и отняла от нас, она нам дала очень много. Она открыла нам нашу любовь к Родине, помогла нам осознать ее, и я убеждена, что сознание это послужит толчком в развитии русского изобразительного искусства…

А.Е. Кибрик
сын Лидии Тимошенко
Нижеследующая запись о первом дне войны была сделана год спустя, около 22 июня 1942 года. См. воспоминания об этом дне в книге Е. Кибрика «Работа и мысли художника». М., Искусство: 1984: 123−124.
ДНЕВНИК
1942, Емуртла
1942, Емуртла
22 июня (…) Мастерская, залитая солнцем (…) Картины, столы, заваленные начатыми рисунками (…) Утро. По обыкновению, я проснулась раньше Жени. Хотелось скорее умыться, позавтракать и встать у мольберта. Но какая-то тяжелая, свинцовая тоска лежала на сердце (…)
Улица (…) Толпа в праздничных платьях. Ослепительное солнце. Редкий для Ленинграда день.
Я иду вдоль Невы. Вход в Эрмитаж нынче отсюда. Все так красиво, так весело, так ясно. А в сердце свинец. «Почему бы?» — дивлюсь я сама на себя. Эрмитаж, я прохожу прямо к барбизонцам: Коро, Курбе, Добиньи. Затем Ватто, Фрагонар и поворачиваю к Рембрандту. Но почему служащие плачут? Одна прошла, вторая. «В чем дело?» — обращаюсь к одной старушке. «Германия нам объявила войну».
Я забываю об Эрмитаже и бегом вылетаю на улицу. Я еще не верю. То же ослепительное солнце, те же светлые платья, все так же нарядно. Но лица уже другие, то хмурые, то заплаканные. Я убеждаюсь окончательно, на ходу вскакиваю в трамвай, с одной мыслью: скорее к Жене!
Он ждал меня с таким же нетерпением. Он ходил по комнате и, как только я, запыхавшись, вбежала, крепко обнял меня и прижал к себе. Это были наши последние дни вместе.
Плачь, плачь, Ленинград! Плачь, мужественный строгий город (…) Немцы скоро подступят к твоему городу. Они сожмут вокруг тебя железное кольцо (…) Но встретишь ты его уже не слезами. А каменной выдержкой и мужеством.
В СССР много замечательных городов, и старинных, и новых. Но нет в СССР ни одного города, похожего на Ленинград. Нет такого стройного, цельного, гармоничного города. Ленинград — это грандиозное произведение искусства (…) Он предъявляет свои требования, он несет традиции своего стиля. Он облагораживает своих жителей. Он влияет на них своим гранитом, своими прямыми улицами, широким простором своих площадей, своими гордыми чугунными памятниками, своей строгой архитектурой, всей своей четкой, ясной простотой, утопающей в туманах. Он воспитывает характеры возвышенные и романтические — как возвышенны и романтичны его памятники, широкие — как широки его площади, крепкие — как крепки гранитные берега Невы, прямые — как прямы его улицы. Не в первый раз в критические минуты ленинградцы показывают свои качества.
Но в эти дни, первые дни войны, когда ничего еще не определилось, — они были обыкновенными людьми. Первый день они плакали, а на другой день побежали закупать продукты, и город украсился очередями, а в очередях шли тревожные разговоры о призыве, о возможных сегодня налетах, о технике немцев, об эвакуации детей.
В следующие за тем дни город стал спешно готовиться к приему незваных гостей.
Улица (…) Толпа в праздничных платьях. Ослепительное солнце. Редкий для Ленинграда день.
Я иду вдоль Невы. Вход в Эрмитаж нынче отсюда. Все так красиво, так весело, так ясно. А в сердце свинец. «Почему бы?» — дивлюсь я сама на себя. Эрмитаж, я прохожу прямо к барбизонцам: Коро, Курбе, Добиньи. Затем Ватто, Фрагонар и поворачиваю к Рембрандту. Но почему служащие плачут? Одна прошла, вторая. «В чем дело?» — обращаюсь к одной старушке. «Германия нам объявила войну».
Я забываю об Эрмитаже и бегом вылетаю на улицу. Я еще не верю. То же ослепительное солнце, те же светлые платья, все так же нарядно. Но лица уже другие, то хмурые, то заплаканные. Я убеждаюсь окончательно, на ходу вскакиваю в трамвай, с одной мыслью: скорее к Жене!
Он ждал меня с таким же нетерпением. Он ходил по комнате и, как только я, запыхавшись, вбежала, крепко обнял меня и прижал к себе. Это были наши последние дни вместе.
Плачь, плачь, Ленинград! Плачь, мужественный строгий город (…) Немцы скоро подступят к твоему городу. Они сожмут вокруг тебя железное кольцо (…) Но встретишь ты его уже не слезами. А каменной выдержкой и мужеством.
В СССР много замечательных городов, и старинных, и новых. Но нет в СССР ни одного города, похожего на Ленинград. Нет такого стройного, цельного, гармоничного города. Ленинград — это грандиозное произведение искусства (…) Он предъявляет свои требования, он несет традиции своего стиля. Он облагораживает своих жителей. Он влияет на них своим гранитом, своими прямыми улицами, широким простором своих площадей, своими гордыми чугунными памятниками, своей строгой архитектурой, всей своей четкой, ясной простотой, утопающей в туманах. Он воспитывает характеры возвышенные и романтические — как возвышенны и романтичны его памятники, широкие — как широки его площади, крепкие — как крепки гранитные берега Невы, прямые — как прямы его улицы. Не в первый раз в критические минуты ленинградцы показывают свои качества.
Но в эти дни, первые дни войны, когда ничего еще не определилось, — они были обыкновенными людьми. Первый день они плакали, а на другой день побежали закупать продукты, и город украсился очередями, а в очередях шли тревожные разговоры о призыве, о возможных сегодня налетах, о технике немцев, об эвакуации детей.
В следующие за тем дни город стал спешно готовиться к приему незваных гостей.

А.Е. Кибрик
сын Лидии Тимошенко
В августе 1941 года Л. Тимошенко с детьми эвакуировалась из Ленинграда, первоначально в Гаврилов Ям Ярославской области, где расположился детский лагерь ЛОСХа, а затем (в декабре 1941 года) — в деревню Емуртла Тюменской области. Е. Кибрик остался в Ленинграде. Родные Л. Тимошенко зиму 1941−1942 года прожили в блокаде, эвакуировались в г. Сарапул Удмуртской АССР в сентябре 1942 года.
ДНЕВНИК
27 сентября 1941, Гаврилов Ям
27 сентября 1941, Гаврилов Ям
С апреля по сентябрь — скарлатина детей. Война (…) Бегство. Я в избе. Темно (…) У Саньки коклюш. От него остались одни косточки. Он лежит в постели. Я с повязанным зубом, только что кончила стирку. Коля, беспечный, мастерит самолетики. От Жени нет писем полтора месяца. Жив ли он? Жива ли мама? Ленинград бомбят. Выживем ли мы в этом мрачном бегстве?
Деревня (…) Старинные избы, мягкая приветливая пригожая природа —
она навевает мысли о том, что когда-то люди жили спокойно и уверенно. Строили на сто лет вперед и не спешили умирать. Жили в ритме с природой. У нас обрывки жизни. И те, у кого есть склонность выполнить труд, страдают, так как все рвется. Картина моя неоконченная осталась в Ленинграде. Здесь я без этюдника и красок.
Деревня (…) Старинные избы, мягкая приветливая пригожая природа —
она навевает мысли о том, что когда-то люди жили спокойно и уверенно. Строили на сто лет вперед и не спешили умирать. Жили в ритме с природой. У нас обрывки жизни. И те, у кого есть склонность выполнить труд, страдают, так как все рвется. Картина моя неоконченная осталась в Ленинграде. Здесь я без этюдника и красок.
28 сентября 1941, Гаврилов Ям
Сегодня выпал первый снег. Я проснулась в 5 часов утра и подошла к окну. Передо мной была белая равнина (…) Равнодушная природа открыла передо мной свою новую красоту. Зеленая не облетевшая листва, сочная зелень травы сквозь прогалины. И белый, белый снег. Я вспомнила снова, как и каждое утро, Ленинград, свою жизнь, жизнь своих; увижу ли их когда-нибудь? И день начался.
(…) И я такая беспомощная с двумя ребятами. Если б Алька был здоров,
работала бы сейчас в колхозе. Он одну болезнь меняет на другую, вот уже скоро год. А живопись? Когда же настанет твой час? Сейчас это кажется фантастическим занятием. А это единственное, что я люблю и умею делать. Умею делать нежные картины, для того, чтобы они висели на стенах. А сейчас стены прошибают бомбами. И люди бегут по всей России. Женюрка. Где ты? И почему ты мне не пишешь? Когда-нибудь кончится горе и война пройдет, и будет снова ясно, и будут живые считать покойников.
(…) И я такая беспомощная с двумя ребятами. Если б Алька был здоров,
работала бы сейчас в колхозе. Он одну болезнь меняет на другую, вот уже скоро год. А живопись? Когда же настанет твой час? Сейчас это кажется фантастическим занятием. А это единственное, что я люблю и умею делать. Умею делать нежные картины, для того, чтобы они висели на стенах. А сейчас стены прошибают бомбами. И люди бегут по всей России. Женюрка. Где ты? И почему ты мне не пишешь? Когда-нибудь кончится горе и война пройдет, и будет снова ясно, и будут живые считать покойников.
“
ИЗ ПИСЬМА А. Я ТИМОШЕНКО К Л. ТИМОШЕНКО
18 октября 1941, Ленинград
(…) Мы дома, но чувство — точно на вокзале. Сейчас позволяю себе большую роскошь: сижу один у себя за столом у светлой лампы, жую вкусный кусок хлеба с маминой специальной серой солью и пишу. Все спят. Все дорожат сном в спокойные ночи. Непрошеные гости часто нарушают наш ночной покой (…) За окном слышится орудийная стрельба, до некоторой степени все мы уже привыкли к этому.
(…) Позавчера был Давид. Он похудел, грустный, но держится мужественно. Говорил, что собирается послать тебе деньги. О вашей Ивановой, он говорил, плохие отзывы, они дошли и до Ленинграда (…) Заходила недели две назад мать Жени, Любовь Моисеевна. Женя попал в какую-то историю и, будучи под следствием, эвакуирован в конце сентября в Новосибирск. Она очень убивалась, что не может сейчас поехать к дочери, и за Женю, что не имеет лично от него никаких известий. Она ходила к Давиду с просьбой, чтобы ЛОСХ помог ей выехать, но пока как будто из этого ничего не вышло. Без организации же она ехать не может, она слишком беспомощна.
18 октября 1941, Ленинград
(…) Мы дома, но чувство — точно на вокзале. Сейчас позволяю себе большую роскошь: сижу один у себя за столом у светлой лампы, жую вкусный кусок хлеба с маминой специальной серой солью и пишу. Все спят. Все дорожат сном в спокойные ночи. Непрошеные гости часто нарушают наш ночной покой (…) За окном слышится орудийная стрельба, до некоторой степени все мы уже привыкли к этому.
(…) Позавчера был Давид. Он похудел, грустный, но держится мужественно. Говорил, что собирается послать тебе деньги. О вашей Ивановой, он говорил, плохие отзывы, они дошли и до Ленинграда (…) Заходила недели две назад мать Жени, Любовь Моисеевна. Женя попал в какую-то историю и, будучи под следствием, эвакуирован в конце сентября в Новосибирск. Она очень убивалась, что не может сейчас поехать к дочери, и за Женю, что не имеет лично от него никаких известий. Она ходила к Давиду с просьбой, чтобы ЛОСХ помог ей выехать, но пока как будто из этого ничего не вышло. Без организации же она ехать не может, она слишком беспомощна.

А.Е. Кибрик
сын Лидии Тимошенко
В этом письме скупо сообщается об аресте отца. Как он мне рассказывал, за ним пришли ночью накануне его ухода добровольцем в ополчение. Во время обыска он в оцепенении лег на диван и проспал несколько часов, пока его не разбудили. Весь пол был усыпан разбросанными бумагами. Ничего крамольного не нашли. Причину ареста ему, как тогда было принято, не сообщили. Квартиру опечатали (она так и простояла нетронутой в блокаду — такие печати мародеров отпугивали). Хотя Ленинград был уже в блокаде и эвакуация мирного населения практически прекратилась, арестованных продолжали спешно вывозить из города. Отец вспоминал, что трое суток их везли в битком набитом трюме баржи. Все стояли стиснутые так, что можно было не прикасаться ногами к полу, не боясь упасть. О прогулке и туалете не могло быть и речи. Изредка в люк спускали кастрюлю с водой или баландой — кому достанется. Но было не до еды. Была качка, и весь трюм рвало. Некоторые, не выдержав обстановки, умирали, но отделить их от живых не было возможности. Шла бомбежка с воздуха, вблизи баржи рвались снаряды. Однако баржа уцелела, арестантов посадили в эшелоны и повезли на восток. Отец говорил, что, несмотря на все ужасы заключения, на свободе он бы не выжил. Его мать умерла от голода в блокадном Ленинграде и похоронена в общей могиле.
Не перенес голода и Д. Загоскин: большую часть своего скудного пайка он отдавал матери своего новорожденного сына. Но младенец ненадолго пережил своего отца. Их похоронили в одном гробу.
Не перенес голода и Д. Загоскин: большую часть своего скудного пайка он отдавал матери своего новорожденного сына. Но младенец ненадолго пережил своего отца. Их похоронили в одном гробу.
“
ИЗ ПИСЬМА М. АСЛАМАЗЯН К Л. ТИМОШЕНКО
7 декабря 1941, Ереван
Лида моя, здравствуй. Вчера получила твое письмо, написанное от 12. XI числа. Я писала примерно в тех же числах очень длинное письмо, ты, наверное, его не застала. Я рада, что ты выехала оттуда, теперь мы ближе. Приехала сюда Шор, только Шишмарева осталась в Казани, мы ее устроили у родственницы нашей хозяйки, с работой она тоже почти устроилась где-то чертежницей, вообще это мелочи все. Ты пиши о себе, меня беспокоит твое здоровье и судьба. Меня крайне поражает то, что ты писала о Жене, это страшно и непонятно. Тут что-то не то, надеюсь, что все скоро будет хорошо, вернемся и будем жить по-прежнему хорошо (…) Лида, на днях я получила странное письмо на наш адрес, но адресовано оно тебе от Самохвалова. Я его открыла, и в письме он спрашивает, где Женя, и просит твой адрес и чтобы ты ему написала в Новосибирск до востребования.
Моя дорогая сестра, друг, родная, береги себя, пока все кончится. (…) Лида, сейчас я, наконец, получила письмо от Мити, в котором он сообщает, что в наш дом попала бомба и все взлетело в воздух. Остатки сгорели, он остался так, в чем был одет. Видишь, что мне тоже не очень весело, ты не одна. Хоть бы работы уцелели в мастерской.
(…) Передай привет всем, кому интересна моя судьба. Целую крепко.
Мариам
7 декабря 1941, Ереван
Лида моя, здравствуй. Вчера получила твое письмо, написанное от 12. XI числа. Я писала примерно в тех же числах очень длинное письмо, ты, наверное, его не застала. Я рада, что ты выехала оттуда, теперь мы ближе. Приехала сюда Шор, только Шишмарева осталась в Казани, мы ее устроили у родственницы нашей хозяйки, с работой она тоже почти устроилась где-то чертежницей, вообще это мелочи все. Ты пиши о себе, меня беспокоит твое здоровье и судьба. Меня крайне поражает то, что ты писала о Жене, это страшно и непонятно. Тут что-то не то, надеюсь, что все скоро будет хорошо, вернемся и будем жить по-прежнему хорошо (…) Лида, на днях я получила странное письмо на наш адрес, но адресовано оно тебе от Самохвалова. Я его открыла, и в письме он спрашивает, где Женя, и просит твой адрес и чтобы ты ему написала в Новосибирск до востребования.
Моя дорогая сестра, друг, родная, береги себя, пока все кончится. (…) Лида, сейчас я, наконец, получила письмо от Мити, в котором он сообщает, что в наш дом попала бомба и все взлетело в воздух. Остатки сгорели, он остался так, в чем был одет. Видишь, что мне тоже не очень весело, ты не одна. Хоть бы работы уцелели в мастерской.
(…) Передай привет всем, кому интересна моя судьба. Целую крепко.
Мариам
ДНЕВНИК
1941, Эвакуационный эшелон
1941, Эвакуационный эшелон
Гаврилов Ям. Я лежала больная целыми днями одна в своей комнатке при уборной, смотрела в окно и отдыхала (…) Я знала, что если Манизеры остались, значит, эшелоном возьмут всех. Фронта я не боялась, бомбежки тоже не боялась. Это был инстинкт, и инстинкт подсказывал мне, что сейчас можно отдыхать.
Во мне все так тихо, так тихо, как бывает в летний день, когда не шелохнется ни один лист, когда на небе нет ни одного облачка. Я пережила и Женино молчание, и волнения за родных и за моих детей.
Я готова к смерти, также как и к жизни.
Мне не было скучно, хотя я лежала целыми днями одна. Я думала или, вернее, грезила. Грезила прошлым (…)
Воспоминания были так ярки, так выпуклы, что они часто перерастали в материал, в творческий материал, из которого надо лепить сегодня, завтра… Поэтому они становились не только прошлым, но и будущим (…)
Я ни о чем не жалела (…)
Трагизм обрушившейся войны, разломавшей и мою жизнь, как и жизнь многих миллионов других семей, в своем основном, самом оглушительном, первом ударе, был пережит. Гроза продолжалась, но раскаты грома стали привычными, а ливень переходил в дождь. Случилось то, что мы ждали все годы. Разразилась буря. Эта буря разломала мою жизнь; удастся ли мне ее собрать и каким образом и когда, об этом я не хотела думать. Это неизвестно. А пока что война выкинула меня из дома, оторвала от искусства, от родных, лишила средств существования. И Женю я потеряла. Жив ли он?
Пока бушует море — ничего не видно в волнах. Осколки разбитых кораблей к берегу принесет значительно позже. Могла ли я жаловаться на несправедливость случая, когда недалеко от нас ежедневно гибли тысячи мужей и сыновей, защищающие нашу Родину? В этом массовом ужасе и горе — тонуло мое горе, а благополучные осторожные семьи, лавировавшие по мере своего искусства жить, среди мировой драмы, меня мало интересовали. Нет, я им не позавидовала сейчас, как и не завидовала вчера. Я не поменялась бы ни с кем местом, лежа в своем грязном, сыром закуте, одинокая, больная и без денег. То, что происходило со мной, было больно и страшно, но это было красиво.
Я еще не отдавала себе отчета, но уже начала ощущать, что разносторонность, разноплановость, дисгармония, происходящая во мне, породила что-то совсем новое, неожиданное, ослепительно красивое. Раскрыла мне тайну творчества, и я смогу творить, так как страдания обострили мои чувства настолько, чтоб увидеть жизнь обнаженную, сверкающую, как «Венера» Тициана, своей наготой, и такую же прекрасную, такую же простую.
Пьяная этим откровением, я лежала в Гавриловом Яме. Такою красивой,
бессмертной Венерой люди увидят жизнь после войны. Пускай она рушит и убивает все, что можно разрушить и убить, пускай она убьет меня, но те, кто останутся, будут дышать легко и свободно. Немецко-фашистской угрозы не будет.
Во мне все так тихо, так тихо, как бывает в летний день, когда не шелохнется ни один лист, когда на небе нет ни одного облачка. Я пережила и Женино молчание, и волнения за родных и за моих детей.
Я готова к смерти, также как и к жизни.
Мне не было скучно, хотя я лежала целыми днями одна. Я думала или, вернее, грезила. Грезила прошлым (…)
Воспоминания были так ярки, так выпуклы, что они часто перерастали в материал, в творческий материал, из которого надо лепить сегодня, завтра… Поэтому они становились не только прошлым, но и будущим (…)
Я ни о чем не жалела (…)
Трагизм обрушившейся войны, разломавшей и мою жизнь, как и жизнь многих миллионов других семей, в своем основном, самом оглушительном, первом ударе, был пережит. Гроза продолжалась, но раскаты грома стали привычными, а ливень переходил в дождь. Случилось то, что мы ждали все годы. Разразилась буря. Эта буря разломала мою жизнь; удастся ли мне ее собрать и каким образом и когда, об этом я не хотела думать. Это неизвестно. А пока что война выкинула меня из дома, оторвала от искусства, от родных, лишила средств существования. И Женю я потеряла. Жив ли он?
Пока бушует море — ничего не видно в волнах. Осколки разбитых кораблей к берегу принесет значительно позже. Могла ли я жаловаться на несправедливость случая, когда недалеко от нас ежедневно гибли тысячи мужей и сыновей, защищающие нашу Родину? В этом массовом ужасе и горе — тонуло мое горе, а благополучные осторожные семьи, лавировавшие по мере своего искусства жить, среди мировой драмы, меня мало интересовали. Нет, я им не позавидовала сейчас, как и не завидовала вчера. Я не поменялась бы ни с кем местом, лежа в своем грязном, сыром закуте, одинокая, больная и без денег. То, что происходило со мной, было больно и страшно, но это было красиво.
Я еще не отдавала себе отчета, но уже начала ощущать, что разносторонность, разноплановость, дисгармония, происходящая во мне, породила что-то совсем новое, неожиданное, ослепительно красивое. Раскрыла мне тайну творчества, и я смогу творить, так как страдания обострили мои чувства настолько, чтоб увидеть жизнь обнаженную, сверкающую, как «Венера» Тициана, своей наготой, и такую же прекрасную, такую же простую.
Пьяная этим откровением, я лежала в Гавриловом Яме. Такою красивой,
бессмертной Венерой люди увидят жизнь после войны. Пускай она рушит и убивает все, что можно разрушить и убить, пускай она убьет меня, но те, кто останутся, будут дышать легко и свободно. Немецко-фашистской угрозы не будет.
8 декабря 1941, Эвакуационный эшелон
Мы едем, то есть, вернее, стоим, изредка в сутки передвигаясь на 30−40 км. Снежные поля, холмы, лес, полустанки, станции, разъезды (…) Застывшие, покрытые снегом эшелоны, и среди них — наш: длинный-длинный, такой же пустой и мертвый снаружи, но внутри, за тяжелой темной дверью теплушки, живущий напряженной жизнью.

А.Е. Кибрик
сын Лидии Тимошенко
Почему-то именно картина этой странной вагонной жизни — одна из первых в просветах моей памяти. Внутренность теплушки представлялась в мои 2,5 года необъятным залом, в центре которого возле огня копошились люди, а я занимал большое пространство, преодолеть которое стоило немалых усилий. В действительности же это была обыкновенная вагонная полка. Мама вспоминала, что по утрам моя шуба примерзала к стене, и меня приходилось от нее отдирать.
Хотя состав стоял на разъездах и в полях очень подолгу, но заранее об отправлении не извещалось и покинуть вагон в поисках воды или пищи было опасно. Наконец, конечная остановка: станция Заводоуковка. До места поселения — несколько десятков километров. Сорокаградусный мороз. Маленьких детей складывали в дровни штабелями и укрывали фанерой, чтобы не замерзли. Но нескольких не уберегли — они задохнулись, и их вынули уже мертвыми.
Хотя состав стоял на разъездах и в полях очень подолгу, но заранее об отправлении не извещалось и покинуть вагон в поисках воды или пищи было опасно. Наконец, конечная остановка: станция Заводоуковка. До места поселения — несколько десятков километров. Сорокаградусный мороз. Маленьких детей складывали в дровни штабелями и укрывали фанерой, чтобы не замерзли. Но нескольких не уберегли — они задохнулись, и их вынули уже мертвыми.
ДНЕВНИК
23 декабря 1941, Емуртла
23 декабря 1941, Емуртла
Снег скрипит под ногами (…) Тускло освещает луна пустынные равнины. Я сворачиваю в круглый, двухэтажный дом по правой стороне улицы. Там ясли. Поднимаюсь по крутой замерзшей лестнице. Шарю в темноте дверь. Распахнула: густой пар, крик ребят, лампа (…) Снимаю пальто (…) Аленок бросается ко мне: «Мама, моя мама пришла». Я забываю все (…) Целую его, он целует меня и без конца повторяет: «Дай изюму, дай сахару.» Так он отводит душу и нежится. Я угощаю его гостинцами и сижу долго, с полчаса, затем иду в следующий дом к Коле. Коля бледный, нервный, рассеянный. Он просит пришить пуговицу к пальто, зашить рукавицу, дать сало. Я все это делаю, целую его, прошу быть послушным, хорошо заниматься и ухожу снова на широкую, уходящую в снежную степь улицу. Кругом избы с заледенелыми окнами. У меня стынут руки, и я получше закрываю платком мокрый нос и иду вдоль улицы. Одинокая, как степная волчица, голодная до семейного уюта.
Письмо к матери
30 января 1942, Емуртла
30 января 1942, Емуртла
Дорогая мамочка! Мне так хочется, чтоб ты о нас не беспокоилась, но я всегда пишу тебе все как есть, так как не уверена, что выживу, уж очень измучила меня Иванова. Надеюсь все же, что скоро ей придет конец. Она сняла меня с работы и питания, причем в такой грубой форме и при таких обстоятельствах, что сама себя, по-моему, посадила в лужу. Во всяком случае, я сейчас приняла меры и написала инспектору Омского облоно и Манизеру в Москву (…) Во всяком случае, ребята мои живут хорошо. Свой долг по отношению к ним я выполняю полностью, и самое насущное желание — дожить до Ленинграда и привезти их в сохранности. Только бы самой дожить. Морально у меня сил сколько угодно, а вот физических очень мало. Ну, бог даст, дотяну. За этот месяц я до некоторой степени окрепла, а сейчас снова поволновалась и сердце дает себя знать. С квартирой тоже переехать пока не удается — некуда. А жить мне с хозяевами очень тяжело. В общем закаляю свои нервы, учусь без конца не обращать внимания на жизненные невзгоды.
(…) И потом я все жду, что мои обстоятельства изменятся к лучшему, может быть, это напрасное ожидание.
(…) И потом я все жду, что мои обстоятельства изменятся к лучшему, может быть, это напрасное ожидание.
Письмо к матери (продолжение)
1 февраля 1942, Емуртла
1 февраля 1942, Емуртла
Нашла себе комнату. То есть, вернее, совершенно изолированную кухню, очень большую, с русской печкой, гопцем и полатями. Коле будет раздольнее прыгать по полатям. Но пока что она замерзшая. Нужно привести ее в порядок, зато этот дом без хозяев, и я буду свободна от их ига.
ДНЕВНИК
12 февраля 1942, Емуртла
12 февраля 1942, Емуртла
Получила известие от Самохвалова о том, что, по словам Черкасова, «Женя жив, здоров и бодр». Где он, я не знаю. Когда я получу весточку от Жени? Ленинград по-прежнему в осаде. Выживут ли мои — не знаю. Голод осажденного города. Что может быть ужаснее?
22 февраля 1942, Емуртла
Дежурство у мальчиков. Деревянные полы, табуретки. Топится печка. Топится целый день. На улице -30°. Принесла воды, наколола дров, вынесла парашу, разделила детский паек. А дальше остается сидеть и смотреть в окна (…) Взад и вперед бегают мальчики. Они огрубели. Чертыхаются, дерутся, кричат.
Что же все-таки делать с живописью? Война выбросила меня за борт в какой-то чужой мир. В мир, оторванный от культуры, искусства, от темпа жизни. Я в степи среди изб, разговоров об огороде и плохой похлебке (…) Я отупела и утратила индивидуальность. Я одинока. Война затянулась, она может длиться годы. Нужно начать работать, делать хотя бы акварели. Для этого нужно найти комнату, где жить. А комнаты нет. Живу в дежурке, а вещи у Е. А. Манизер. Там где-то краски, карандаши и все прочее. При мне же нет ничего, кроме табака и зубной щетки. А что с Женей, я так и не знаю. И, как видно, ждать придется очень долго.
7 месяцев прошло с тех пор, как я уехала из Ленинграда.
Что же все-таки делать с живописью? Война выбросила меня за борт в какой-то чужой мир. В мир, оторванный от культуры, искусства, от темпа жизни. Я в степи среди изб, разговоров об огороде и плохой похлебке (…) Я отупела и утратила индивидуальность. Я одинока. Война затянулась, она может длиться годы. Нужно начать работать, делать хотя бы акварели. Для этого нужно найти комнату, где жить. А комнаты нет. Живу в дежурке, а вещи у Е. А. Манизер. Там где-то краски, карандаши и все прочее. При мне же нет ничего, кроме табака и зубной щетки. А что с Женей, я так и не знаю. И, как видно, ждать придется очень долго.
7 месяцев прошло с тех пор, как я уехала из Ленинграда.
9 марта 1942, Емуртла
Вчера приехал из Ленинграда Муратов. Он привез список умерших от голода товарищей. В том числе и Давид. Коля стал сиротой. Он больше никогда не увидит своего папу. Я не могу прийти в себя, не могу найти себе места. Позади 10 лет жизни с Давидом. Давид — друг. С Давидом прошла моя юность. Первые шаги и успех в искусстве. Давида нет и у меня нет его работ. Нет его любимой библиотеки. Как много времени я провела за этими книжками. Что будет дальше? Увижусь ли с моими родными? Увижу ли когда-нибудь Женю? Я всех растеряла. Кого из них мне удастся вновь найти? Зима, буран, воет ветер (…)
Мне хочется все время ласкать и прижимать к себе моего Коланю. Что-то его ждет?
Смогу ли я вырастить двоих детей? Удастся ли нам пережить бурю?
Мне хочется все время ласкать и прижимать к себе моего Коланю. Что-то его ждет?
Смогу ли я вырастить двоих детей? Удастся ли нам пережить бурю?
23 марта 1942, Емуртла
Список умерших все увеличивается (…) Сирот все больше и больше (…)
24 марта 1942, Емуртла
Когда переезжаешь в новый дом, не хочется заботиться о старом. Я давно перестала думать о том, что на мне одето, умыта я или нет. Я забыла, что я хочу, что мне нужно.
Последнее время мне не хочется есть, мне не хочется доставать еду. Это так трудно и так скучно. Целые дни я сижу или лежу и думаю, а о чем, сама не припомню. Я почти готова к смерти. Останутся ли мои работы? Удастся ли друзьям собрать их после войны? Поймут ли когда-нибудь зрители, что я хотела сказать? Почувствуют ли аромат простоты и свежести, безыскусственности, который в них есть? Кто знает? — Мне больно. По ночам я волнуюсь. А я хочу покоя, тупого покоя. Если б не Коля, такой ни к чему не приспособленный и склонный к дурному, я бы стала работать агентом. Ездила бы на лошади по белым степям и мечтала бы вволю. Эта голая, бесконечная степь зовет к движению. Хочется ехать и ехать туда, за горизонт. Хочется ехать туда, где люди живут в XX веке, где есть культура, где спички не кажутся чудом комфорта. Я хочу тупого покоя, а вместо этого у меня каждый нерв напряжен, и против воли я плыву через понедельники, вторники, среды, в хаосе болезненных острых чувств. В Ленинграде мы жили мимо жизни, поверх нее. Меня это мучило. Нельзя было писать.
Сейчас жизнь реальна. Этот голод, эти покойники, эта земля, огород, картошка, война — реальность, как 10 дней жизни в Новгороде. Самое реальное, что было в моей жизни. Это не было выдуманным счастьем, так же как и сейчас не выдумано горе. Жив ли Женя? (…) Жить реальной жизнью так же трудно, как писать реальные картины. Трудно переносить реальное горе и реальное счастье нам, привыкшим к бумажным страстям. Сколько малодушия и трусости видела я за это время. В Ленинграде, в ЛОСХе, со слов скульптора Малахина, правление съедало по 10 обедов в день, а прочим художникам давали по 10 обедов в месяц. В результате «прочие» художники умерли. Со слов художника Муратова: правление кормится особо и хорошо, находится в цветущем состоянии. Они собрались и признались друг другу в том, что они герои, и «давайте не будем стыдиться, не будем этого скрывать, раз и навсегда признаемся себе и другим в том, что мы герои, и не будем об этом забывать». Серов, Пинчук, Серебряный, Прошкин, Малагис.
Некоторые другие «герои» заблаговременно удрали из Ленинграда. Между ними знак равенства.
Последнее время мне не хочется есть, мне не хочется доставать еду. Это так трудно и так скучно. Целые дни я сижу или лежу и думаю, а о чем, сама не припомню. Я почти готова к смерти. Останутся ли мои работы? Удастся ли друзьям собрать их после войны? Поймут ли когда-нибудь зрители, что я хотела сказать? Почувствуют ли аромат простоты и свежести, безыскусственности, который в них есть? Кто знает? — Мне больно. По ночам я волнуюсь. А я хочу покоя, тупого покоя. Если б не Коля, такой ни к чему не приспособленный и склонный к дурному, я бы стала работать агентом. Ездила бы на лошади по белым степям и мечтала бы вволю. Эта голая, бесконечная степь зовет к движению. Хочется ехать и ехать туда, за горизонт. Хочется ехать туда, где люди живут в XX веке, где есть культура, где спички не кажутся чудом комфорта. Я хочу тупого покоя, а вместо этого у меня каждый нерв напряжен, и против воли я плыву через понедельники, вторники, среды, в хаосе болезненных острых чувств. В Ленинграде мы жили мимо жизни, поверх нее. Меня это мучило. Нельзя было писать.
Сейчас жизнь реальна. Этот голод, эти покойники, эта земля, огород, картошка, война — реальность, как 10 дней жизни в Новгороде. Самое реальное, что было в моей жизни. Это не было выдуманным счастьем, так же как и сейчас не выдумано горе. Жив ли Женя? (…) Жить реальной жизнью так же трудно, как писать реальные картины. Трудно переносить реальное горе и реальное счастье нам, привыкшим к бумажным страстям. Сколько малодушия и трусости видела я за это время. В Ленинграде, в ЛОСХе, со слов скульптора Малахина, правление съедало по 10 обедов в день, а прочим художникам давали по 10 обедов в месяц. В результате «прочие» художники умерли. Со слов художника Муратова: правление кормится особо и хорошо, находится в цветущем состоянии. Они собрались и признались друг другу в том, что они герои, и «давайте не будем стыдиться, не будем этого скрывать, раз и навсегда признаемся себе и другим в том, что мы герои, и не будем об этом забывать». Серов, Пинчук, Серебряный, Прошкин, Малагис.
Некоторые другие «герои» заблаговременно удрали из Ленинграда. Между ними знак равенства.
1 апреля 1942, Емуртла
Ездила за картошкой на посев. Искала, таскала, бережно везла (…), в результате ее отняли в лагерь. Матери остались и без картошки, и без денег.
Скучно (…) Хочется отвлечься, переключиться в привычную отвлеченность, но, может быть, и хорошо, что я гнала дни в заботах, хотя бы и в пустых. Все равно дома жить негде — холодно, и еще сквозь тоску и пустые хлопоты я любила степь, я ехала и наслаждалась пространством, милой пустой равниной, то в буране, то спокойной, солнечной, безграничной.
Я чувствовала в себе голос предков, вольных, смелых, диких, живших в таких же степях, скачущих на лошадях или лежащих на земле (…) Какое необъяснимое счастье лежать, прижавшись к земле, с запрокинутым к куполу неба лицом, слившись с землей, растворившись в воздухе (…)
Я постепенно привязываюсь к здешней природе. И наслаждение, получаемое от впечатлений, вызванных ею, — половина моей здешней жизни. Вторая половина — боль за детей, за родных и мусорные заботы. Получила от мамочки телеграмму: «Здоровы». Так ли? Хоть бы они выжили. А что-то делает мой бедный Женя? Мне все кажется, что я скоро его увижу.
А там — война! Там многие лежат с запрокинутыми лицами и невидящими глазами.
(…) Я люблю народ. Как жаль, что нет возможности делать с них этюды. Сколько красоты! И никто ею не любуется.
Скучно (…) Хочется отвлечься, переключиться в привычную отвлеченность, но, может быть, и хорошо, что я гнала дни в заботах, хотя бы и в пустых. Все равно дома жить негде — холодно, и еще сквозь тоску и пустые хлопоты я любила степь, я ехала и наслаждалась пространством, милой пустой равниной, то в буране, то спокойной, солнечной, безграничной.
Я чувствовала в себе голос предков, вольных, смелых, диких, живших в таких же степях, скачущих на лошадях или лежащих на земле (…) Какое необъяснимое счастье лежать, прижавшись к земле, с запрокинутым к куполу неба лицом, слившись с землей, растворившись в воздухе (…)
Я постепенно привязываюсь к здешней природе. И наслаждение, получаемое от впечатлений, вызванных ею, — половина моей здешней жизни. Вторая половина — боль за детей, за родных и мусорные заботы. Получила от мамочки телеграмму: «Здоровы». Так ли? Хоть бы они выжили. А что-то делает мой бедный Женя? Мне все кажется, что я скоро его увижу.
А там — война! Там многие лежат с запрокинутыми лицами и невидящими глазами.
(…) Я люблю народ. Как жаль, что нет возможности делать с них этюды. Сколько красоты! И никто ею не любуется.
“
ИЗ ПИСЬМА М. АСЛАМАЗЯН К Л. ТИМОШЕНКО
9 апреля 1942, Ереван
Лида, милая, сегодня получила твое черное письмо. Неужели это правда? Как жалко и тяжело, сколько талантливых людей погибло. Жалко больше всех Давида. Он был настоящий большой художник, и так скоро кончилась его жизнь, как он много хотел сделать. Лида, родная, как тебе тяжело, я представить не могу, но надо мужаться, пережить все это.
(…) Пиши, получала ли ты что-нибудь из дома? Как Арсений, мама? Что от Жени? Целую детей и тебя.
Мариам
9 апреля 1942, Ереван
Лида, милая, сегодня получила твое черное письмо. Неужели это правда? Как жалко и тяжело, сколько талантливых людей погибло. Жалко больше всех Давида. Он был настоящий большой художник, и так скоро кончилась его жизнь, как он много хотел сделать. Лида, родная, как тебе тяжело, я представить не могу, но надо мужаться, пережить все это.
(…) Пиши, получала ли ты что-нибудь из дома? Как Арсений, мама? Что от Жени? Целую детей и тебя.
Мариам
ДНЕВНИК
3 мая 1942, Емуртла
3 мая 1942, Емуртла
25.IV. был большой налет на Ленинград. 35 самолетов сбито. Говорят,
что Ленинград очень пострадал. Живы ли мои?
(…) Моя мамочка, моя родная, единственная голубка, стареет и слабеет. И ей ли с ее силами пережить эту жестокую бойню? Неужели я ее никогда не увижу? Моя ненаглядная, любимая, самоотверженная! Родная моя далекая мамочка! Если бы меня спросили, что лучше — умереть в Ленинграде около тебя или остаться живой здесь в Сибири и никогда тебя не увидеть, — я не задумываясь бы выбрала первое, но в Ленинград не приедешь!
что Ленинград очень пострадал. Живы ли мои?
(…) Моя мамочка, моя родная, единственная голубка, стареет и слабеет. И ей ли с ее силами пережить эту жестокую бойню? Неужели я ее никогда не увижу? Моя ненаглядная, любимая, самоотверженная! Родная моя далекая мамочка! Если бы меня спросили, что лучше — умереть в Ленинграде около тебя или остаться живой здесь в Сибири и никогда тебя не увидеть, — я не задумываясь бы выбрала первое, но в Ленинград не приедешь!
9 мая 1942, Емуртла
Мой Дэви умер… Не дождавшись кусочка хлеба! Где его работы? Где его библиотека? Жив ли Женя? И если он будет жить — каким он будет? Пробую делать этюды — ничего не получается. Отвыкла работать, и, кажется, слишком истрепаны нервы.
18 мая 1942, Емуртла
Сегодня уехала в Ярославскую губернию Елена Ал. Манизер. Единственный человек, который помогал мне и мог помочь.
Я долго лежала на кровати и думала о Жене, о моих родных, о прошлой
жизни. А настоящее и будущее? — Нет, его я не хочу касаться. Дети меня придавили и выпихнули из жизни. Я не могу работать, они мне мешают. Я люблю их и люблю искусство. Но они живые и хотят есть — значит, нужно о них заботиться, значит, некогда писать.
Я долго лежала на кровати и думала о Жене, о моих родных, о прошлой
жизни. А настоящее и будущее? — Нет, его я не хочу касаться. Дети меня придавили и выпихнули из жизни. Я не могу работать, они мне мешают. Я люблю их и люблю искусство. Но они живые и хотят есть — значит, нужно о них заботиться, значит, некогда писать.
19 мая 1942, Емуртла
(…) Я все время твержу себе только одно: нужно не думать о тяжести, которую несешь, иначе она покажется непомерной. Нужно найти в себе внутреннюю силу, нужно видеть, чувствовать и писать этюды, забыв о личном горе. Сейчас только искусство может быть мне поддержкой. Ходила на этюды и, когда выбрала уже мотив и села, обнаружила отсутствие кистей в мешке. Голова не на месте, больная голова.
Письмо к Е.А. Манизер
3 июня 1942, Емуртла
3 июня 1942, Емуртла
Дорогая Елена Александровна!
Только что получила Ваше письмо и сразу же отвечаю. Ну что же! Из Вашего письма видно, что Вы пока не отдохнули и не совсем устроились. Но в общем там, наверное, будет Вам очень хорошо. И я за Вас рада.
Спасибо, что Вы, еще усталая, все же сели мне писать.
Что же касается меня, то, конечно, от своего несчастия, так же как и от своего черта, не убежишь. Я одна с маленькими детьми, значит, мне везде будет тяжело. Недавно я получила письмо от Самохвалова, в котором он пишет о том, что Черкасов будет пытаться ускорить следствие, и о том, что они оба говорили о том, что «Матвею Генриховичу как зам. председателя оргкомитета следовало бы обратиться с ходатайством об ускорении следствия». Матвею Генриховичу я об этом писала. Возможно, что и Самохвалов обратится к нему сам, так как я сообщила ему, что Матвей Генрихович мне не отвечает. Пишет еще о том, что Женя чувствует себя хорошо и что там знают, кто он такой и что из себя творчески представляет. Сейчас в связи с тенденцией сбережения кадров интеллигенции я думаю, что ходатайство было бы своевременным. Больше нажимать на Вас (простите меня) с этим делом я не буду (…)
Только что получила Ваше письмо и сразу же отвечаю. Ну что же! Из Вашего письма видно, что Вы пока не отдохнули и не совсем устроились. Но в общем там, наверное, будет Вам очень хорошо. И я за Вас рада.
Спасибо, что Вы, еще усталая, все же сели мне писать.
Что же касается меня, то, конечно, от своего несчастия, так же как и от своего черта, не убежишь. Я одна с маленькими детьми, значит, мне везде будет тяжело. Недавно я получила письмо от Самохвалова, в котором он пишет о том, что Черкасов будет пытаться ускорить следствие, и о том, что они оба говорили о том, что «Матвею Генриховичу как зам. председателя оргкомитета следовало бы обратиться с ходатайством об ускорении следствия». Матвею Генриховичу я об этом писала. Возможно, что и Самохвалов обратится к нему сам, так как я сообщила ему, что Матвей Генрихович мне не отвечает. Пишет еще о том, что Женя чувствует себя хорошо и что там знают, кто он такой и что из себя творчески представляет. Сейчас в связи с тенденцией сбережения кадров интеллигенции я думаю, что ходатайство было бы своевременным. Больше нажимать на Вас (простите меня) с этим делом я не буду (…)
ДНЕВНИК
7 июня 1942, Емуртла
7 июня 1942, Емуртла
Работаю. Вожусь с детьми. Хорошо, потому что не касаюсь лагерных дел. Потому что одна и свободна для дум и работы. Ах, если б сделать то, что я задумала. Попытаюсь.
Жду Женю. Все надеюсь, что его освободят. Как-то он там? Наверное, бедняга, волнуется за нас. Часами лежу и думаю о нем. Хочу его. Страшно даже думать о встрече. 19. VII — год разлуки.
Жду Женю. Все надеюсь, что его освободят. Как-то он там? Наверное, бедняга, волнуется за нас. Часами лежу и думаю о нем. Хочу его. Страшно даже думать о встрече. 19. VII — год разлуки.
“
ИЗ ПИСЬМА С. САМОХВАЛОВА К Л. ТИМОШЕНКО
1942, Новосибирск
(…) Ваше отчаяние, Лидия Яковлевна, не имеет под собой никакой почвы. Во-первых, Женя жив и здоров, и, как мне сказал несколько дней тому назад Черкасов, в ближайшие дни дело его выяснится. Во-вторых, я написал Вам еще два письма, то есть ответил на каждое Ваше. В одном из них подробно рассказывал о беседе с Черкасовым, который <неразборчиво>, что, по-видимому, переписка и передача Жене невозможна, так как следствие еще не окончено — отсюда и скудость сведений о нем. А на днях при встрече он очень обнадеживающе сказал, что следствие подходит к концу — тогда он напишет Вам подробно. Обещал послать Вам телеграмму, но, видимо, не сделал этого.
Я понимаю, как Вам тяжело, но сделать что-либо невозможно. С Черкасовым я встречаюсь довольно часто, но сведения от него довольно сжатые, и полностью сообщаю их Вам. Привет,
Самохвалов
1942, Новосибирск
(…) Ваше отчаяние, Лидия Яковлевна, не имеет под собой никакой почвы. Во-первых, Женя жив и здоров, и, как мне сказал несколько дней тому назад Черкасов, в ближайшие дни дело его выяснится. Во-вторых, я написал Вам еще два письма, то есть ответил на каждое Ваше. В одном из них подробно рассказывал о беседе с Черкасовым, который <неразборчиво>, что, по-видимому, переписка и передача Жене невозможна, так как следствие еще не окончено — отсюда и скудость сведений о нем. А на днях при встрече он очень обнадеживающе сказал, что следствие подходит к концу — тогда он напишет Вам подробно. Обещал послать Вам телеграмму, но, видимо, не сделал этого.
Я понимаю, как Вам тяжело, но сделать что-либо невозможно. С Черкасовым я встречаюсь довольно часто, но сведения от него довольно сжатые, и полностью сообщаю их Вам. Привет,
Самохвалов
ДНЕВНИК
15 июня 1942, Емуртла
15 июня 1942, Емуртла
Получила письмо от Самохвалова с известием, что следствие по Жениному делу подходит к концу. Боюсь верить. Да и каков будет конец?
(…) Пока с работой ничего не выходит. Но, может быть, все пойдет на
пользу — и пережитые страдания, и жизнь в глуши, на природе. У меня много замыслов, но нет времени и сил их выполнять.
(…) Пока с работой ничего не выходит. Но, может быть, все пойдет на
пользу — и пережитые страдания, и жизнь в глуши, на природе. У меня много замыслов, но нет времени и сил их выполнять.
20 июня 1942, Емуртла
Сибирь… В Сибири среди бескрайних черноземных степей и лесов человек мал. Он молчит среди необъятного пространства.
1. «Посадка картофеля». По черному полю под куполом бездонного неба женщина ведет быка. Бык, символ природной силы, бык в ярме на поводу у маленькой стойкой мужественной советской женщины. Она терпеливо движется по диагонали картины. На втором плане женщины сажают картофель.
2. «Трактористка» — не румяная и улыбающаяся, как у нас обычно делают, а как в реальности: женщина нахмурившаяся, напряженная, выполняющая тяжелую и грязную, но нужную стране работу.
3. «Последний день перед отправкой на фронт». Закат, девушка сидит на пряслах, она в черном, но она молода, задорна и полна надежд, несмотря на то, что над головами у них тяжелые тучи. Парень уже отвернулся от родного дома, что за ним, от родных степей с вьющимся дымком и от девушки, но он держит ее за руку. В ногах у него чемодан. Парень весь собран и полон решимости.
1. «Посадка картофеля». По черному полю под куполом бездонного неба женщина ведет быка. Бык, символ природной силы, бык в ярме на поводу у маленькой стойкой мужественной советской женщины. Она терпеливо движется по диагонали картины. На втором плане женщины сажают картофель.
2. «Трактористка» — не румяная и улыбающаяся, как у нас обычно делают, а как в реальности: женщина нахмурившаяся, напряженная, выполняющая тяжелую и грязную, но нужную стране работу.
3. «Последний день перед отправкой на фронт». Закат, девушка сидит на пряслах, она в черном, но она молода, задорна и полна надежд, несмотря на то, что над головами у них тяжелые тучи. Парень уже отвернулся от родного дома, что за ним, от родных степей с вьющимся дымком и от девушки, но он держит ее за руку. В ногах у него чемодан. Парень весь собран и полон решимости.
23 июня 1942, Емуртла
Половину понедельника пробегала в поисках теса для подрамников и плотника. Плотника нашла, а теса нет. Зря уходят время и силы.
24 июня 1942, Емуртла
Женюра, Женюра, родной мой, крепись! Скоро ли я тебя увижу? Выдержишь ли ты? Каково же тебе, если мне тяжело на воле и с ребятами, которые меня развлекают?
Пишу небо. И буду писать все лето.
Пишу небо. И буду писать все лето.
28 июня 1942, Емуртла
Странное дело (…) Здесь я чувствую себя на родине. Здесь я вся — полна песнями. Стихотворение Лермонтова: «Небо, небо и звезды, а я человек» — основной мотив. Небо бесконечно разнообразное. Человек всегда на фоне неба, а земля под ногами. Это звучит по-особому. Я увидела то, что жило в моей душе под спудом города, пригородных лесков, дач со всегда закрытым горизонтом. Здесь я — как на корабле, с крыльца, на пороге моей кухни, как с капитанского мостика, наблюдаю расстилающийся кругом передо мной горизонт и вечно изменчивое небо.
1 июля 1942, Емуртла
Наблюдения над окружающим все более меня увлекают. Даже страшно, до чего узкой личной жизнью жила. Здесь, в глуши, я чувствую себя более связанной с государством, с Родиной, с ее задачами, чем в Ленинграде.
И внутренне я свободнее. Есть еще травма от пережитого горя, но голова уже полна рабочих планов. Их гораздо больше, чем я могу выполнить. Впервые вплотную наблюдаю природу. Вот где можно научиться живописи.
И внутренне я свободнее. Есть еще травма от пережитого горя, но голова уже полна рабочих планов. Их гораздо больше, чем я могу выполнить. Впервые вплотную наблюдаю природу. Вот где можно научиться живописи.
5 июля 1942, Емуртла
Все время нахожусь в таком состоянии, как будто что-то должно случиться. Ночью плохо сплю. Чувствую себя больной и очень настороженной. Все нервы натянуты. С работой не клеится.
Видела сон. Как будто мы с Женей в новой квартире. Совершенно новой, роскошной, просторной. И он мне показывает новую книгу, им написанную и иллюстрированную. Поразительно интересно.
Видела сон. Как будто мы с Женей в новой квартире. Совершенно новой, роскошной, просторной. И он мне показывает новую книгу, им написанную и иллюстрированную. Поразительно интересно.
6 июля 1942, Емуртла
Меня здорово обокрали. Я осталась без юбки, и без платья, и без простыни. Председатель сельсовета говорит, что мер принять никаких нельзя. Произошло это под счастливый сон.
(…) Хочу видеть Альку. Он меня всегда в тяжелые минуты утешает. Мой маленький, веселый, ласковый Алик. Не зря я полюбила Женю, Алик будет чудесным человечком.
(…) Начатый холст сильно потемнел, и это от плохого грунта (нет мела) и от керосина, на котором приходится писать. Неужели я, художник со вкусом и душой XX века, никогда не смогу пользоваться техникой XX века?
Громко сказано — ибо подразумеваю доброкачественные краски, нефть и масло. Это, увы, недостижимо.
Что сейчас делает Женя? Где он? Как выглядит? Иногда я боюсь, что мы встретимся чужими друг другу стариками. Слишком много пережито за этот год, а сколько «годов» еще пройдет?
(…) Хочу видеть Альку. Он меня всегда в тяжелые минуты утешает. Мой маленький, веселый, ласковый Алик. Не зря я полюбила Женю, Алик будет чудесным человечком.
(…) Начатый холст сильно потемнел, и это от плохого грунта (нет мела) и от керосина, на котором приходится писать. Неужели я, художник со вкусом и душой XX века, никогда не смогу пользоваться техникой XX века?
Громко сказано — ибо подразумеваю доброкачественные краски, нефть и масло. Это, увы, недостижимо.
Что сейчас делает Женя? Где он? Как выглядит? Иногда я боюсь, что мы встретимся чужими друг другу стариками. Слишком много пережито за этот год, а сколько «годов» еще пройдет?
7 июля 1942, Емуртла
А любви было так мало! И она тоже все обрывалась. (…) Эх! Где золотой век? Где золотая любовь? Седина, морщины, мужество, страдания. И только в серых глазах могут быть молодые, упрямые огоньки. И только на холсте или на листе бумаги может снова расцвести красота и юность. Как жаль, что у меня нет Жениного рисунка, лежащего с Нелли Тиля.
8 июля 1942, Емуртла
(…) Получила письмо от Аськи. Мои собираются ликвидировать имущество и приехать ко мне. Я жду их напряженно и с нетерпением. Как мамочка перенесет дорогу, и вообще будет ли эвакуация?
11 июля 1942, Емуртла
Сегодня суббота, солнечный день. Мне удалось вымыться в бане. Большая, редкая удача!
12 июля 1942, Емуртла
Милиция приехала. Сделали обыск. Нашли Колину зеленую куртку. Но вывод самый замечательный: за недостатком улик — дело прикрыть. Так как куртка «не сворована, присвоена». Увы. Юбка, платье, простыни канули в вечность. Юбку жалко. Ну, шут с ними со всеми!
13 июля 1942, Емуртла
Получила телеграмму: Женя жив, здоров, днями приедет ко мне. Новосибирск. Черкасов.
Обалдела и ничего не соображала от радости. Неужели я его увижу скоро? На днях? Боюсь думать. Послала телеграмму через Черкасова.
Обалдела и ничего не соображала от радости. Неужели я его увижу скоро? На днях? Боюсь думать. Послала телеграмму через Черкасова.
14 июля 1942, Емуртла
Чувствую себя как на сковородке. Ни спать, ни есть, ни ходить, ни сидеть. Жду, жду, жду. Жду от Самого весточки. О! Эти дни. Скорей, скорей приезжай! Сегодня 14-е, 19-го — год разлуки с Женей. 19-го я его в последний раз поцеловала. Будет ли он 19-го здесь?
17 июля 1942, Емуртла
Выбелила избу, вымыла полы, убралась. Ставлю каждый день свежие цветы. Жду друга!
Вестей больше нет. Вчера ходила к Альке, сказала, что к нему едет отец. Какие утомительные часы! Как медленно идет время!
Вестей больше нет. Вчера ходила к Альке, сказала, что к нему едет отец. Какие утомительные часы! Как медленно идет время!
20 июля 1942, Емуртла
На почте ничего нет! Бросила работать с тех пор, как получила телеграмму, и не могу приняться вновь. Как тут взять себя в руки и жить? Родной дружок, откликнись, где ты?
И вдруг снова чувствую себя сильной, молодой и свободной. Этот год только меня отшлифовал. Вот что значит реальная жизнь, реальные страдания.
И вдруг снова чувствую себя сильной, молодой и свободной. Этот год только меня отшлифовал. Вот что значит реальная жизнь, реальные страдания.
“
ИЗ ПИСЬМА А.Я. ТИМОШЕНКО К Л. ТИМОШЕНКО
25 июля 1942, Ленинград
Лидочка!
Несколько дней тебе не писал, так как у нас дорожная лихорадка. Готовимся к отъезду. Когда это произойдет, точно неизвестно, вопрос дней, по-видимому. Дорога стала тяжелая. Случаются неприятности. На всякий случай мы дали адреса: твой — нашим друзьям, и тебе напишу их, чтобы можно было взаимно справиться.
(…) Как все получится, один Бог знает. Но ты не волнуйся, если некоторое время не будешь получать известий. Это бывает по независимым обстоятельствам, в дороге не всегда можно послать.
От Жени получили телеграмму, и теперь уже сомнений нет. Он просил телеграфировать твой адрес до востребования. Я ему послал телеграмму. (…) В НКВД не ходил, хотя получил извещение. О Жене теперь знаю. А квартиру распечатывать боюсь. В Союзе тоже не советуют трогать. Говорят, так сохранней. Всякого рода охранные удостоверения оказываются недействительными, да сейчас всем не до этого.
Зашел на выставку «Ленинград в дни блокады», посмотрел очень бегло, так как торопился. Очень понравились мне работы Пакулина. Они лучше, чем прежние его работы. Они жестковаты (его манера), но мастерство само за себя говорит. Видно, что он об этом думал, когда писал.
25 июля 1942, Ленинград
Лидочка!
Несколько дней тебе не писал, так как у нас дорожная лихорадка. Готовимся к отъезду. Когда это произойдет, точно неизвестно, вопрос дней, по-видимому. Дорога стала тяжелая. Случаются неприятности. На всякий случай мы дали адреса: твой — нашим друзьям, и тебе напишу их, чтобы можно было взаимно справиться.
(…) Как все получится, один Бог знает. Но ты не волнуйся, если некоторое время не будешь получать известий. Это бывает по независимым обстоятельствам, в дороге не всегда можно послать.
От Жени получили телеграмму, и теперь уже сомнений нет. Он просил телеграфировать твой адрес до востребования. Я ему послал телеграмму. (…) В НКВД не ходил, хотя получил извещение. О Жене теперь знаю. А квартиру распечатывать боюсь. В Союзе тоже не советуют трогать. Говорят, так сохранней. Всякого рода охранные удостоверения оказываются недействительными, да сейчас всем не до этого.
Зашел на выставку «Ленинград в дни блокады», посмотрел очень бегло, так как торопился. Очень понравились мне работы Пакулина. Они лучше, чем прежние его работы. Они жестковаты (его манера), но мастерство само за себя говорит. Видно, что он об этом думал, когда писал.
ДНЕВНИК
27 июля 1942, Емуртла
27 июля 1942, Емуртла
Получила телеграмму от Жени. Днями он выезжает сюда. Сердце замирает!

А.Е. Кибрик
сын Лидии Тимошенко
И наконец долгожданная встреча! Как редок был такой финал в те годы! Скорее чудо, чем закономерное торжество справедливости. Но чудо тоже всегда дело чьих-то рук. И если одни отворачивались или переходили на другую сторону улицы, завидя издалека жену врага народа, если другие, стоя на страже идеи, «бескомпромиссно» вышвыривали ее детей из лагеря Худфонда, то были такие, кто, несмотря ни на что, стремились вселить надежду и поддержать. Нашлись и люди, которые не только хотели, но и могли оказать действенную помощь. Без преувеличения, спас отца Н. Черкасов, бывший в то время депутатом Верховного Совета, человеком очень влиятельным и уважаемым. Он знал отца лично, так как часто позировал ему в 30-е годы. Но по тем временам веры в невиновность было очень мало, и он совершил мало кому известный гражданский подвиг, настойчиво добиваясь ясности в деле Е. Кибрика. Благодаря его запросам на Кибрика обратили внимание.
Тюрьмы тогда были переполнены. Как отец рассказывал, днем сидели на полу, поджав под себя ноги, а ночью лежали на боку и поворачивались по команде. До весны 1942 года его ни разу не вызывали на допрос.
Следствие было кратким и скучным. В деле ему, кажется, инкриминировали «политический» анекдот, записанный на квартире, а также донос от коллеги-художника.
Необходимо сказать добрые слова в адрес А. Самохвалова, искренне стремившегося помочь отцу и выступившего в роли «посредника» с Н. Черкасовым. Нельзя забывать, что даже сам факт переписки с Лидией Тимошенко, находившейся под наблюдением, регулярно допрашиваемой местным следователем, в условиях военной цензуры, был смелым и рискованным поступком.
По приезде в Емуртлу отец забирает нас всех из детского лагеря, где обстановка была весьма тяжелая, и увозит в Самарканд, куда эвакуировалась Академия художеств.
Тюрьмы тогда были переполнены. Как отец рассказывал, днем сидели на полу, поджав под себя ноги, а ночью лежали на боку и поворачивались по команде. До весны 1942 года его ни разу не вызывали на допрос.
Следствие было кратким и скучным. В деле ему, кажется, инкриминировали «политический» анекдот, записанный на квартире, а также донос от коллеги-художника.
Необходимо сказать добрые слова в адрес А. Самохвалова, искренне стремившегося помочь отцу и выступившего в роли «посредника» с Н. Черкасовым. Нельзя забывать, что даже сам факт переписки с Лидией Тимошенко, находившейся под наблюдением, регулярно допрашиваемой местным следователем, в условиях военной цензуры, был смелым и рискованным поступком.
По приезде в Емуртлу отец забирает нас всех из детского лагеря, где обстановка была весьма тяжелая, и увозит в Самарканд, куда эвакуировалась Академия художеств.
“
ИЗ ПИСЬМА Д.А. ШМАРИНОВА К Л. ТИМОШЕНКО
22 августа 1942, Москва
Милая Лидия Яковлевна!
После долгих блужданий Ваше письмо, адресованное в Союз художников Фрунзе, нашло меня в Москве, а через небольшое время я с большой радостью узнал, что Кибрик приехал в Новосибирск и сейчас, по-видимому, у Вас. Не будучи, однако, в этом уверенным, пишу Вам. Телеграмма о высылке денег Оргкомитетом была получена <неразборчиво>, что деньги решено выслать и, я надеюсь, они будут высланы. Тем не менее, несмотря на настойчивость, это еще не сделано. Причины — обычная неповоротливость и совпадение неблагоприятных обстоятельств. В конце концов телеграмма — основной документ на высылку денег, оказалась потерянной. Надеюсь, что в ближайшие дни они, наконец, будут высланы — я думаю, на Ваш адрес, так как Вам наверняка будет известен адрес Кибрика в случае, если он будет не с Вами. Передайте ему сердечный привет и пожелания здоровья и бодрости. Николай Эрнестович писал ему в Новосибирск.
Д. Шмаринов
22 августа 1942, Москва
Милая Лидия Яковлевна!
После долгих блужданий Ваше письмо, адресованное в Союз художников Фрунзе, нашло меня в Москве, а через небольшое время я с большой радостью узнал, что Кибрик приехал в Новосибирск и сейчас, по-видимому, у Вас. Не будучи, однако, в этом уверенным, пишу Вам. Телеграмма о высылке денег Оргкомитетом была получена <неразборчиво>, что деньги решено выслать и, я надеюсь, они будут высланы. Тем не менее, несмотря на настойчивость, это еще не сделано. Причины — обычная неповоротливость и совпадение неблагоприятных обстоятельств. В конце концов телеграмма — основной документ на высылку денег, оказалась потерянной. Надеюсь, что в ближайшие дни они, наконец, будут высланы — я думаю, на Ваш адрес, так как Вам наверняка будет известен адрес Кибрика в случае, если он будет не с Вами. Передайте ему сердечный привет и пожелания здоровья и бодрости. Николай Эрнестович писал ему в Новосибирск.
Д. Шмаринов
4 сентября 1942, Самарканд
Ну вот мы уже месяц вместе и уже в Самарканде.
“
ИЗ ПИСЬМА И. ГИНЗБУРГ К Л. ТИМОШЕНКО
16 сентября 1942, Ташкент
Дорогая моя Лидочка, если бы вы видели мою глупую от радости физиономию, когда я читала принесенное С.Л. ваше письмо, вам не понадобилось бы комментариев. Я по вас просто изголодалась и, как голодный, почти всем и почти всюду о вас рассказывала. Теперь я вас нашла, а искала я вас вплоть до эвакуационного бюро.
(…) Я рада тому, что в первом же письме вы написали мне о живописи, что вы себя не растеряли. Я горжусь вашим искусством, как если бы оно было моим собственным, впрочем, больше (…) И я с удовольствием вижу, что многие москвичи, хорошие художники, вас заметили. Вам кланяется, не зная Вас лично, Евг. Пастернак, очень недурной портретист, которую вы покорили вашей «Стеллой», о вас очень тепло говорила Козлова, вам неплохо было бы здесь.
(…) Целую вас крепко, говорить с вами надо очень (…)
16 сентября 1942, Ташкент
Дорогая моя Лидочка, если бы вы видели мою глупую от радости физиономию, когда я читала принесенное С.Л. ваше письмо, вам не понадобилось бы комментариев. Я по вас просто изголодалась и, как голодный, почти всем и почти всюду о вас рассказывала. Теперь я вас нашла, а искала я вас вплоть до эвакуационного бюро.
(…) Я рада тому, что в первом же письме вы написали мне о живописи, что вы себя не растеряли. Я горжусь вашим искусством, как если бы оно было моим собственным, впрочем, больше (…) И я с удовольствием вижу, что многие москвичи, хорошие художники, вас заметили. Вам кланяется, не зная Вас лично, Евг. Пастернак, очень недурной портретист, которую вы покорили вашей «Стеллой», о вас очень тепло говорила Козлова, вам неплохо было бы здесь.
(…) Целую вас крепко, говорить с вами надо очень (…)
6 октября 1942, Самарканд
Тропическая малярия у всех. Угнетающее состояние. Тоска по России. Тоска по близким. Слабость.

А.Е. Кибрик
сын Лидии Тимошенко
И. Гинзбург побывала в Самарканде и встречалась с Л. Тимошенко: сохранился ее портрет работы Лидии Тимошенко, который ныне находится у ученицы Изабеллы Гинзбург, искусствоведа Р. И. Власовой.
Жизнь в Средней Азии оказалась мучительной — без работы, денег и сносного жилья, но доконала всех болезнь. Пришлось снова, теперь уже добровольно разделиться. Отец остался в Самарканде (его приняли преподавателем в Академию), а мама с нами отправилась к своим родным, эвакуировавшимся к тому времени из Ленинграда в Сарапул вместе с заводом, директором которого была сестра Варвара Яковлевна. Здесь Л. Тимошенко продолжает нелегкую борьбу за свое профессиональное существование. Этому препятствует теснота, бедность, отсутствие элементарных материалов и принадлежностей для живописи, а вдобавок еще и нелепые случайности. Так, как-то мама, проходя по территории спиртзавода, провалилась в желоб с кипящей бардой и обварила ноги. Несколько месяцев она пролежала в постели забинтованной, пока не восстановилась кожа. Любила она позднее со смехом вспоминать, как ей на второй этаж водили козу, потому что она единственная в семье умела доить, и она занималась лежа этой процедурой, с ногами, задранными на спинку кровати. Тем не менее за этот год была выполнена целая серия работ, некоторые из которых теперь находятся в музеях. Желание подняться над обстоятельствами и сохранить в себе Художника в ней не ослабевало, а крепло.
Жизнь в Средней Азии оказалась мучительной — без работы, денег и сносного жилья, но доконала всех болезнь. Пришлось снова, теперь уже добровольно разделиться. Отец остался в Самарканде (его приняли преподавателем в Академию), а мама с нами отправилась к своим родным, эвакуировавшимся к тому времени из Ленинграда в Сарапул вместе с заводом, директором которого была сестра Варвара Яковлевна. Здесь Л. Тимошенко продолжает нелегкую борьбу за свое профессиональное существование. Этому препятствует теснота, бедность, отсутствие элементарных материалов и принадлежностей для живописи, а вдобавок еще и нелепые случайности. Так, как-то мама, проходя по территории спиртзавода, провалилась в желоб с кипящей бардой и обварила ноги. Несколько месяцев она пролежала в постели забинтованной, пока не восстановилась кожа. Любила она позднее со смехом вспоминать, как ей на второй этаж водили козу, потому что она единственная в семье умела доить, и она занималась лежа этой процедурой, с ногами, задранными на спинку кровати. Тем не менее за этот год была выполнена целая серия работ, некоторые из которых теперь находятся в музеях. Желание подняться над обстоятельствами и сохранить в себе Художника в ней не ослабевало, а крепло.
“
ПИСЬМО Е. КИБРИКА К Л. ТИМОШЕНКО
декабрь 1942, отправлено из Алма-Аты по дороге в Москву
… <повреждено> Лидочка, пожелай мне сил (…) Пережить эту зиму не впустую, чтобы я смог сделать что-нибудь значительное. Это очень, очень важно.
Мне сейчас нужен друг, но где он? Ты, бедная моя, далеко, и еще с ребятами. Каково еще тебе придется?
Я еду в омут головой вниз.
Оказывается Академия стала для меня мышеловкой.
Ничего, этот учебный год придется провести здесь, а летом постараюсь выбраться в Свердловск. Зимой постараюсь списаться со всеми, кто может быть полезен в этом деле. Только бы ты была здорова и ребята. Тогда, я не сомневаюсь, у тебя дела наладятся.
Я хочу всю боль и горечь миллионов людей выразить в искусстве. Но как? Узбекистан для этого не дает материала, а без живых впечатлений ничего сильного не сделаешь. В Сибири это можно было бы, но…
Лида, неужели я не смогу больше сделать радостных вещей? Мне кажется, что нет. А ведь жить надо. То есть надо работать, бороться за свое место, двигаться вперед.
Главное — двигаться. Во что бы то ни стало двигаться вперед!
Желаю тебе здоровья и бодрости, милая. Мы так грустно расстались — как бедные родственники, что ли…
Всех вас целую. Твой Женя.
<На полях:> Обязательно спишись с Эммой <повреждено>
декабрь 1942, отправлено из Алма-Аты по дороге в Москву
… <повреждено> Лидочка, пожелай мне сил (…) Пережить эту зиму не впустую, чтобы я смог сделать что-нибудь значительное. Это очень, очень важно.
Мне сейчас нужен друг, но где он? Ты, бедная моя, далеко, и еще с ребятами. Каково еще тебе придется?
Я еду в омут головой вниз.
Оказывается Академия стала для меня мышеловкой.
Ничего, этот учебный год придется провести здесь, а летом постараюсь выбраться в Свердловск. Зимой постараюсь списаться со всеми, кто может быть полезен в этом деле. Только бы ты была здорова и ребята. Тогда, я не сомневаюсь, у тебя дела наладятся.
Я хочу всю боль и горечь миллионов людей выразить в искусстве. Но как? Узбекистан для этого не дает материала, а без живых впечатлений ничего сильного не сделаешь. В Сибири это можно было бы, но…
Лида, неужели я не смогу больше сделать радостных вещей? Мне кажется, что нет. А ведь жить надо. То есть надо работать, бороться за свое место, двигаться вперед.
Главное — двигаться. Во что бы то ни стало двигаться вперед!
Желаю тебе здоровья и бодрости, милая. Мы так грустно расстались — как бедные родственники, что ли…
Всех вас целую. Твой Женя.
<На полях:> Обязательно спишись с Эммой <повреждено>
“
ИЗ ПИСЬМА ВАССЫ К Л. ТИМОШЕНКО В САРАПУЛ
26 марта 1943, Емуртла
Здравствуйте, Лида Тимошенко!
Говорят, Вы обо мне спрашивали. Говорят — привет передавали. Я душою тронута, и мне очень милы и приятны и Ваш привет и Ваше внимание. Когда я вечерами прохожу по пустынной Емуртле и смотрю на громадное небо в звездах, и деревья
стоят тихие-тихие — я всегда, каждый раз о Вас думаю, и днем, где-нибудь в дороге между Емуртлой и Нерпой, когда небо такое мглистое серое — тоже. Вы мне подарили несколько часов, Лида, которых я до смерти не забуду. Вы у меня оставили свой такой образ, Лида, — необыкновенный, умный, своеобразный. Я всегда радуюсь, что мне привелось Вас узнать. Ах, какая Вы были милая, какая женственная, нежная, когда приехал Ваш муж. Я с удовольствием Вам все это повторяю, я действительно считала себя счастливой, что мне привелось с Вами познакомиться, с такой, какая Вы настоящая. Ведь могло случиться, не забеги я как-то вечером в дежурку, то я бы не почувствовала ничего?!
Мне рассказывают, что Вы теперь довольны и жизнью, и работой, но сначала Вам было плохо, и вся Ваша семья тяжело хворала. Говорят мне тоже, что Вы скучаете по лагерю. Это, конечно, потому, что у Вас душа поэта, и на расстоянии, в разлуке — все образы и явления у Вас обволоклись дымкой романтики (…)
(…) Я уверена, что Вы мне ответите. Я даже представляю себе, что мы сидим в дежурке, при свете коптилки, и душа моя будет гореть, гореть. И я смотрю будто в Ваши прекрасные глаза, на Ваш прекрасный интересный рот.
Пожалуйста, расскажите мне, где Ваш муж? Как устроилась Ваша жизнь? Неужели все-таки неизбежно Вам с ним быть врозь? Как растет таинственный Коля Загоскин и маленький жизнерадостный Алик? (…)
Привет Вам и Вашим детям.
Васса
26 марта 1943, Емуртла
Здравствуйте, Лида Тимошенко!
Говорят, Вы обо мне спрашивали. Говорят — привет передавали. Я душою тронута, и мне очень милы и приятны и Ваш привет и Ваше внимание. Когда я вечерами прохожу по пустынной Емуртле и смотрю на громадное небо в звездах, и деревья
стоят тихие-тихие — я всегда, каждый раз о Вас думаю, и днем, где-нибудь в дороге между Емуртлой и Нерпой, когда небо такое мглистое серое — тоже. Вы мне подарили несколько часов, Лида, которых я до смерти не забуду. Вы у меня оставили свой такой образ, Лида, — необыкновенный, умный, своеобразный. Я всегда радуюсь, что мне привелось Вас узнать. Ах, какая Вы были милая, какая женственная, нежная, когда приехал Ваш муж. Я с удовольствием Вам все это повторяю, я действительно считала себя счастливой, что мне привелось с Вами познакомиться, с такой, какая Вы настоящая. Ведь могло случиться, не забеги я как-то вечером в дежурку, то я бы не почувствовала ничего?!
Мне рассказывают, что Вы теперь довольны и жизнью, и работой, но сначала Вам было плохо, и вся Ваша семья тяжело хворала. Говорят мне тоже, что Вы скучаете по лагерю. Это, конечно, потому, что у Вас душа поэта, и на расстоянии, в разлуке — все образы и явления у Вас обволоклись дымкой романтики (…)
(…) Я уверена, что Вы мне ответите. Я даже представляю себе, что мы сидим в дежурке, при свете коптилки, и душа моя будет гореть, гореть. И я смотрю будто в Ваши прекрасные глаза, на Ваш прекрасный интересный рот.
Пожалуйста, расскажите мне, где Ваш муж? Как устроилась Ваша жизнь? Неужели все-таки неизбежно Вам с ним быть врозь? Как растет таинственный Коля Загоскин и маленький жизнерадостный Алик? (…)
Привет Вам и Вашим детям.
Васса
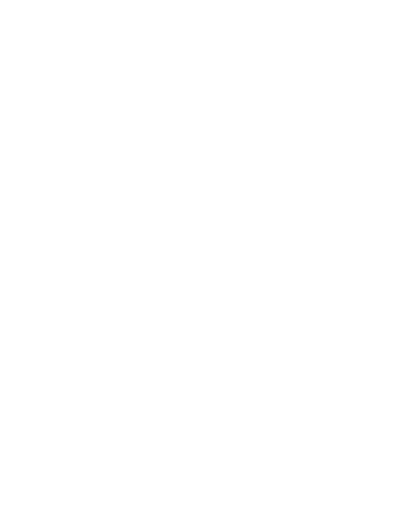
Евгений Кибрик. Самарканд, 1943
“
ИЗ ПИСЬМА Е. КИБРИКА К Л. ТИМОШЕНКО
12 апреля 1943, Самарканд
Лидочка! То не было писем, то их целая куча. Вчера получил от 3, 8 и 17 марта, а потом от 22. От этих писем мне стало немного легче, они веселее, и это веселит меня.
Как вы набрались смелости с козами? Я бы никогда не решился. А вдруг сдохнут, а вдруг украдут и т. д. Я прямо-таки волнуюсь за вас с этими козами. Все-таки это здорово рискованно. Нет, я бы никогда не решился. Узнаю твой размах.
(…) Радует меня и то, что к Альке стали относиться лучше. Ведь я знаю, что он мальчишка хороший, и думаю, что он, бедняга, страдал из-за меня, то есть отношение ко мне переносили на него.
Интересно, что даст поездка в Ижевск? Неужели ты не написала Катуркину о картинке? Он мог бы прислать тебе вызов, и ты съездила бы в Москву и отвезла бы ее. Чем черт не шутит.
Мои дела не очень важные. Из Москвы еще ничего нет. Работать мне дома негде и некогда (…) Начал было рисовать на воздухе, но пошли дожди. Сегодня только солнце весь день. В Академии, конечно, начались пока еще очень легкие перемены. Зайцев ревнует к тому, что двое из его мастерской работают у меня, и из-за этого возникают разговоры. Постараюсь сдержаться.
Грабарь прислал из Москвы телеграмму о том, что выедет в Ярославскую область смотреть места в конце апреля. Может быть, и поедем летом?
(…) Беспокоит меня моя одежда. От пальто одни лохмотья. Брюки все зашиваю, а они расползаются. Носки — как бублик: дырка, а вокруг немного носка. Синяя сатиновая рубаха пострадала сильно. Сжег грудь махоркой так, что не залатать. Так что у меня сейчас две верхние рубашки (…) Я все чиню, как могу. С хозяйкой у меня хорошие отношения. Они ко мне привыкли, и мы живем дружно. Не представляю, как прожил бы один. А так мне и кружки не надо (я так и не решился ее купить — куда уж мне до коз — это только ты такая отчаянная) (…)
12 апреля 1943, Самарканд
Лидочка! То не было писем, то их целая куча. Вчера получил от 3, 8 и 17 марта, а потом от 22. От этих писем мне стало немного легче, они веселее, и это веселит меня.
Как вы набрались смелости с козами? Я бы никогда не решился. А вдруг сдохнут, а вдруг украдут и т. д. Я прямо-таки волнуюсь за вас с этими козами. Все-таки это здорово рискованно. Нет, я бы никогда не решился. Узнаю твой размах.
(…) Радует меня и то, что к Альке стали относиться лучше. Ведь я знаю, что он мальчишка хороший, и думаю, что он, бедняга, страдал из-за меня, то есть отношение ко мне переносили на него.
Интересно, что даст поездка в Ижевск? Неужели ты не написала Катуркину о картинке? Он мог бы прислать тебе вызов, и ты съездила бы в Москву и отвезла бы ее. Чем черт не шутит.
Мои дела не очень важные. Из Москвы еще ничего нет. Работать мне дома негде и некогда (…) Начал было рисовать на воздухе, но пошли дожди. Сегодня только солнце весь день. В Академии, конечно, начались пока еще очень легкие перемены. Зайцев ревнует к тому, что двое из его мастерской работают у меня, и из-за этого возникают разговоры. Постараюсь сдержаться.
Грабарь прислал из Москвы телеграмму о том, что выедет в Ярославскую область смотреть места в конце апреля. Может быть, и поедем летом?
(…) Беспокоит меня моя одежда. От пальто одни лохмотья. Брюки все зашиваю, а они расползаются. Носки — как бублик: дырка, а вокруг немного носка. Синяя сатиновая рубаха пострадала сильно. Сжег грудь махоркой так, что не залатать. Так что у меня сейчас две верхние рубашки (…) Я все чиню, как могу. С хозяйкой у меня хорошие отношения. Они ко мне привыкли, и мы живем дружно. Не представляю, как прожил бы один. А так мне и кружки не надо (я так и не решился ее купить — куда уж мне до коз — это только ты такая отчаянная) (…)
Письмо к Т.И. Катуркину
1943, Сарапул
1943, Сарапул
Дорогой Тимофей Ильич!
На этот раз пишу Вам с сестрой (она едет в Москву). Вот Вам полные сведения о моих делах.
У меня есть готовыми к выставке:
1. Портрет т. Быкова, слесаря-орденоносца военного завода.
2. Портрет т. Волкова, комсомольца-изобретателя.
3. Портрет секр. горкома комсомола т. Саввиной.
4. Портрет т. Скибневского, засл. деят. искусств Удмуртской АССР, режиссера республиканского театра.
5. Портрет Ирмы Керикеш, девочки 12 лет. Смеющаяся, капитан тимуровского отряда.
6. Портрет дочери Скибневского.
7. Четыре пейзажных этюда и один жанровый.
Видите, по количеству пока что мало — по трем причинам:
1. Приступила к работе серьезно только весной, а раньше все добывала помещение, материалы и пр.;
2. Пишу каждую работу сеансов по десять (портреты как блины не напечешь), и наконец
3. Отнимает много времени работа в театре.
В драматическом театре сделала постановку «Двенадцатая ночь» Шекспира, в оперетте — «Взаимная любовь». Сейчас буду работать над «Грозой» Островского. Одновременно приступлю к следующим портретам уже военных в Ижевске, о чем я Вам писала раньше. Прежде чем выставляться в Москве, мне хотелось бы апробировать себя в Ижевске — а вещей не хватает. Надо еще подождать и написать. Помните, как-то в Ленинграде Вы спрашивали меня о том, кто мой учитель? Отвечаю сейчас: Антон Чехов. Его знание людей, его проникновение, его бесконечная любовь к ним, его любовь к скромной правде — вот мое кредо.
Знаете что? Скажу Вам откровенно: эти два военных года — лучшие годы в моей жизни, а если хотите, никогда мне не было так хорошо, как сейчас. Что будет дальше — посмотрим, а сейчас я беспредельно увлечена желанием выразить основную сущность изображаемого мной человека. Увлечение всем этим разнообразием, особенностями… да что говорить? Надо писать и писать (…)
Деньги мне дает только театр, а живопись столько же, сколько воробью
его чириканье. И это тоже мне радостно.
Вот у меня какая просьба. Тимофей Ильич!
Пожалуйста, напишите секретарю горкома партии г. Сарапула и ижевскому комитету по делам искусств бумажки. Хорошо бы поубедительнее, чтобы мне оказывали содействие во всех условиях работы и быта: комната, дрова, материалы, освещение ит.п. (кстати, я с ребятами очень оборвалась), об обуви и одежде, и передайте эти бумажки сестре, она мне их привезет.
(…) Война не только много разрушила и отняла от нас, она нам дала очень много. Она открыла нам нашу любовь к Родине, помогла осознать ее, и я убеждена, что сознание это послужит толчком в развитии русского изобразительного искусства: «так вот, оказывается, как он мне дорог, как я его люблю» — чувство матери во время тяжелой болезни ребенка. И хочется напрячь силы, чтобы она скорее оправилась, скорее зацвела, эта любимая земля.
На этот раз пишу Вам с сестрой (она едет в Москву). Вот Вам полные сведения о моих делах.
У меня есть готовыми к выставке:
1. Портрет т. Быкова, слесаря-орденоносца военного завода.
2. Портрет т. Волкова, комсомольца-изобретателя.
3. Портрет секр. горкома комсомола т. Саввиной.
4. Портрет т. Скибневского, засл. деят. искусств Удмуртской АССР, режиссера республиканского театра.
5. Портрет Ирмы Керикеш, девочки 12 лет. Смеющаяся, капитан тимуровского отряда.
6. Портрет дочери Скибневского.
7. Четыре пейзажных этюда и один жанровый.
Видите, по количеству пока что мало — по трем причинам:
1. Приступила к работе серьезно только весной, а раньше все добывала помещение, материалы и пр.;
2. Пишу каждую работу сеансов по десять (портреты как блины не напечешь), и наконец
3. Отнимает много времени работа в театре.
В драматическом театре сделала постановку «Двенадцатая ночь» Шекспира, в оперетте — «Взаимная любовь». Сейчас буду работать над «Грозой» Островского. Одновременно приступлю к следующим портретам уже военных в Ижевске, о чем я Вам писала раньше. Прежде чем выставляться в Москве, мне хотелось бы апробировать себя в Ижевске — а вещей не хватает. Надо еще подождать и написать. Помните, как-то в Ленинграде Вы спрашивали меня о том, кто мой учитель? Отвечаю сейчас: Антон Чехов. Его знание людей, его проникновение, его бесконечная любовь к ним, его любовь к скромной правде — вот мое кредо.
Знаете что? Скажу Вам откровенно: эти два военных года — лучшие годы в моей жизни, а если хотите, никогда мне не было так хорошо, как сейчас. Что будет дальше — посмотрим, а сейчас я беспредельно увлечена желанием выразить основную сущность изображаемого мной человека. Увлечение всем этим разнообразием, особенностями… да что говорить? Надо писать и писать (…)
Деньги мне дает только театр, а живопись столько же, сколько воробью
его чириканье. И это тоже мне радостно.
Вот у меня какая просьба. Тимофей Ильич!
Пожалуйста, напишите секретарю горкома партии г. Сарапула и ижевскому комитету по делам искусств бумажки. Хорошо бы поубедительнее, чтобы мне оказывали содействие во всех условиях работы и быта: комната, дрова, материалы, освещение ит.п. (кстати, я с ребятами очень оборвалась), об обуви и одежде, и передайте эти бумажки сестре, она мне их привезет.
(…) Война не только много разрушила и отняла от нас, она нам дала очень много. Она открыла нам нашу любовь к Родине, помогла осознать ее, и я убеждена, что сознание это послужит толчком в развитии русского изобразительного искусства: «так вот, оказывается, как он мне дорог, как я его люблю» — чувство матери во время тяжелой болезни ребенка. И хочется напрячь силы, чтобы она скорее оправилась, скорее зацвела, эта любимая земля.
Заявление Начальнику управления по делам искусств при Совнаркоме Удмуртской АССР
1943, Сарапул
1943, Сарапул
от ленинградской художницы
(член. билет Союза сов. художников № 10−101)
Лидии Яковлевны Тимошенко,
эвакуированной в г. Сарапул, ул. Азина, 9
Уважаемый Анатолий Иванович!
Я обращаюсь к Вам по следующим вопросам. В гор. Сарапуле нет ни художников, ни соответствующей организации. А так как я не уверена, что в ближайшее время удастся вернуться в Ленинград, и знаю, что по Постановлению М. Храпченко эвакуированные художники прикрепляются к Союзу по месту жительства, то прошу перевести меня в члены Союза советских художников Удмуртской АССР. В настоящее время я очутилась в положении странном: мне некуда платить членские взносы (следовательно, я вне учета), не с кем оформить рабочие планы, заключить договора, не к кому обратиться за материалами и вообще по всем моим нуждам. Короче говоря, я вроде Робинзона. Я обращалась в горсовет с просьбой дать мне командировку в Ижевск для выяснения своего положения, но мне в этом было отказано. Без командировки же нельзя сесть в поезд.
Продолжать жить вне среды и вне всякого общения с художественной
жизнью невозможно. Кстати, и в материальном отношении я бедствую (имея двоих детей). Пока что мне после четырех месяцев мытарств удалось добиться разрешения работать в одной из комнат Дома пионеров. Я связалась с горкомом комсомола и собираюсь написать ряд жанровых, небольшого формата картин на тему «Комсомол во время войны». Попутно собираюсь писать пейзажи.
Кроме того, у меня есть почти законченная, по заказу Москвы, небольшая вещь («Последний вечер перед отправкой на фронт») (не знаю, куда ее переправить?). Я нуждаюсь в кистях мелких размеров, в холсте и бумаге.
Простите меня, но взывать остается только к Вам или к небесам.
Пожалуйста, вышлите мне командировку для выяснения всех этих вопросов.
Я член ЛОСХа с его основания в 1932 году. Участвовала, начиная с 1929 года, на всех ежегодных ленинградских выставках, на всех юбилейных выставках в Москве, на выставке советской графики в Латвии, на выставке лучших произведений советского искусства в Москве. Работы мои в разные годы приобретались Гос. Русским музеем, Гос. Третьяковской галереей, Ереванским музеем, Ленинградским дворцом пионеров, комитетом выставки «Индустрия социализма» и т. д.
Рецензии о моих работах и репродукции с них бывали в газетах и в журнале «Искусство» и «Творчество». В журнале «Творчество» за 1941 год (насколько помню) была напечатана монографическая статья о моем творчестве.
На выставке в Латвии, а также на выставке эстампов в Москве эстамп
«Катюша» получил высокую оценку.
Основные работы:
«Старуха на барахолке», масло (приобретена гос. закуп. комиссией), «С уловом» (Гос. Русский музей, репродуцировался эстампом в 1933 г.
в Москве), серия картин из жизни пионеров: «Подруги», «Квартет», этюд «Купание» (Гос. Русский музей); «Купание пионеров», картина (Ленинградский дворец пионеров), роспись комнаты, панно из жизни пионеров (Ленинградский дворец пионеров), «Танцы» (Ленизо), «Портрет Стеллы Манизер», «Катюша» (выставка достижений советского искусства, Гос. Третьяковская галерея), серия портретов.
Картина «Киров среди авиамоделистов», 12 кв. м, незаконченная, осталась в Ленинграде, собственность Государственного Русского музея, писала для выставки «25 лет советской власти».
Прошу Вас помочь мне во время войны и эвакуации работать так же интенсивно, как я работала до войны, и в рядах удмуртских советских художников участвовать на выставке «Отечественная война», к организации которой приступлено в Москве.
Уважающая Вас
Л. Тимошенко
“
ИЗ ПИСЬМА Е. КИБРИКА К Л. ТИМОШЕНКО
20 октября 1943, Москва
Лидочка!
Вчера приехал. До сих пор не было времени послать тебе телеграмму. Сейчас ночь, сижу в мастерской Шмаринова. Ночую сегодня здесь, он только что ушел.
Ну так вот. Поездка оказалась удачная. Показывал утром рисунки Шкваркину. Ему очень понравилось. Буду делать серию «Оборона Сталинграда». Он говорит: «Делайте два года, три, пять лет, но так, чтобы вошло в историю, заключаю договор».
Послезавтра начнется Голгофа (бр-р-р) оформления, прописка (мороз по коже), броня и т. д. Наверное, 10 дней займет, а там будет видно, что будет. Начну работать. Мечтаю вас перевезти сюда и все сделаю. Но сейчас говорить рано. Работы у меня будет много, тем более если возьму еще книгу. (В издательство пойду позже.) Видел вчера Алянского, он спрашивал о тебе. Зайду к нему, заключу договор на что-нибудь — эстампы, открытки. Надо деньги доставать и посылать тебе. 2700 руб. ты, наверное, получила. Себе буду оставлять на обед и паек, остальное тебе. Видел мельком Катуркина. Расцеловались. Он сегодня получил твое письмо. Пошлет тебе вызов. Вот славно бы было, если бы ты приехала! Ничего, что работы опоздают на выставку. Свое дело они сделают. Вскользь говорили о возможности совсем вызвать вместе с детьми. Через пару дней к нему зайду.
(…) Жаль мне тебя ужасно. Я все понимаю ведь. И очень рад, что ты работаешь. Уверен, что вещи хорошие, и всем об этом говорю.
(…) верь, что сейчас лед тронулся и что пойдет к лучшему, желаю тебе успеха, пожелай его и мне, то есть нам, и целую тебя.
Женя
20 октября 1943, Москва
Лидочка!
Вчера приехал. До сих пор не было времени послать тебе телеграмму. Сейчас ночь, сижу в мастерской Шмаринова. Ночую сегодня здесь, он только что ушел.
Ну так вот. Поездка оказалась удачная. Показывал утром рисунки Шкваркину. Ему очень понравилось. Буду делать серию «Оборона Сталинграда». Он говорит: «Делайте два года, три, пять лет, но так, чтобы вошло в историю, заключаю договор».
Послезавтра начнется Голгофа (бр-р-р) оформления, прописка (мороз по коже), броня и т. д. Наверное, 10 дней займет, а там будет видно, что будет. Начну работать. Мечтаю вас перевезти сюда и все сделаю. Но сейчас говорить рано. Работы у меня будет много, тем более если возьму еще книгу. (В издательство пойду позже.) Видел вчера Алянского, он спрашивал о тебе. Зайду к нему, заключу договор на что-нибудь — эстампы, открытки. Надо деньги доставать и посылать тебе. 2700 руб. ты, наверное, получила. Себе буду оставлять на обед и паек, остальное тебе. Видел мельком Катуркина. Расцеловались. Он сегодня получил твое письмо. Пошлет тебе вызов. Вот славно бы было, если бы ты приехала! Ничего, что работы опоздают на выставку. Свое дело они сделают. Вскользь говорили о возможности совсем вызвать вместе с детьми. Через пару дней к нему зайду.
(…) Жаль мне тебя ужасно. Я все понимаю ведь. И очень рад, что ты работаешь. Уверен, что вещи хорошие, и всем об этом говорю.
(…) верь, что сейчас лед тронулся и что пойдет к лучшему, желаю тебе успеха, пожелай его и мне, то есть нам, и целую тебя.
Женя
Письмо к Е. Кибрику
1 ноября 1943, Сарапул
1 ноября 1943, Сарапул
Женичка! Получила вчера два твоих письма. Одно из Сталинграда и одно из Москвы. Посылаю с Вавой вещи: 12 портретов и 15 пейзажей. Там уж разберешься в них. Пишу письмо Катуркину, можешь передать его вместе с картинами. Показывать лучше бы в рамках, и вместе они действуют сильнее. Для пейзажей хороши были бы глубокие золотые рамы, наверное, не найдешь? Ну, там тебе виднее. Конечно, могла бы писать гораздо лучше, если бы не условия (…) На днях прихожу в мастерскую <неразборчиво> взломан вместе с замком, комната открыта, и по ней гуляют красноармейцы. Здание заняли под призывной пункт, и мне надо было его очистить в течение 2-х часов. Представляешь, как мы с Колей потрудились, таская вещи из одного конца города в другой. В такие минуты я обыкновенно думаю: и вcе одна, одна.
Сегодня была у Ступина, он уже слышал о моем выселении. Он удивительно мил. «Я был бы варваром, если бы не помог Вам, ведь если Вам создать условия, как бы Вы много сделали». Звонит в жилуправление: «Даю вам задание найти хорошую комнату в трехдневный срок, и я от вас не отстану, пока не найдете». Я ему говорю: Александр Семенович, пожалуйста, возьмите что-нибудь из моих работ себе на память. — «Нет, ни за что не возьму. Я этого не стою. Я еще ничего для Вас не сделал». Предлагает лошадь в любую минуту для перевозки вещей, позвонит начальнику станции об отправке вещей и хорошей посадке Ваве и т. п.
(…) И он мне никогда ни в чем не отказывает, а я не злоупотребляю и редко обращаюсь. Благодаря ему вместо хлеба на всю семью мы получаем пшеничную муку, ездила я в колхоз. В общем, об отношении ты можешь судить по диалогу.
Все же я очень хочу скорее в Москву к тебе. Надо же когда-нибудь семью собрать и жить спокойней (…) Постарайся нас туда перевезти, Женюра.
Эти дни я занята упаковкой вещей, упаковывает их Гатчинский музей
в подрамниках, тебе легче будет в Москве. А потом поеду в колхоз, если не будет комнаты. Получила письмо от Скибневского, он пишет, что эскизы к «Грозе» очень понравились в Ижевске коллективу, но выполнять ее я, наверное, не поеду, лучше писать, да и по дому к зиме дел пропасть. У нас третий год зима, мороз и много снегу сразу. Очень красиво, но писать пока некогда. Здесь мои картины безусловно действуют, как-то будет в Москве — очень волнуюсь, наверное, покажутся грязными (сильно потемнели) и старомодными.
Я писала бы еще проще, но выразительнее, тогда бы был свой стиль вразрез с московским. Как я соскучилась без картин, без людей, без тебя, без среды (…) Вообще, Женичка, забирай нас скорее. Может быть, мои работы помогут? Сейчас мне было бы легче писать тематическую картину, потому что меня уже не пугают взрослые люди, выражение их лиц и т. д.
Сегодня была у Ступина, он уже слышал о моем выселении. Он удивительно мил. «Я был бы варваром, если бы не помог Вам, ведь если Вам создать условия, как бы Вы много сделали». Звонит в жилуправление: «Даю вам задание найти хорошую комнату в трехдневный срок, и я от вас не отстану, пока не найдете». Я ему говорю: Александр Семенович, пожалуйста, возьмите что-нибудь из моих работ себе на память. — «Нет, ни за что не возьму. Я этого не стою. Я еще ничего для Вас не сделал». Предлагает лошадь в любую минуту для перевозки вещей, позвонит начальнику станции об отправке вещей и хорошей посадке Ваве и т. п.
(…) И он мне никогда ни в чем не отказывает, а я не злоупотребляю и редко обращаюсь. Благодаря ему вместо хлеба на всю семью мы получаем пшеничную муку, ездила я в колхоз. В общем, об отношении ты можешь судить по диалогу.
Все же я очень хочу скорее в Москву к тебе. Надо же когда-нибудь семью собрать и жить спокойней (…) Постарайся нас туда перевезти, Женюра.
Эти дни я занята упаковкой вещей, упаковывает их Гатчинский музей
в подрамниках, тебе легче будет в Москве. А потом поеду в колхоз, если не будет комнаты. Получила письмо от Скибневского, он пишет, что эскизы к «Грозе» очень понравились в Ижевске коллективу, но выполнять ее я, наверное, не поеду, лучше писать, да и по дому к зиме дел пропасть. У нас третий год зима, мороз и много снегу сразу. Очень красиво, но писать пока некогда. Здесь мои картины безусловно действуют, как-то будет в Москве — очень волнуюсь, наверное, покажутся грязными (сильно потемнели) и старомодными.
Я писала бы еще проще, но выразительнее, тогда бы был свой стиль вразрез с московским. Как я соскучилась без картин, без людей, без тебя, без среды (…) Вообще, Женичка, забирай нас скорее. Может быть, мои работы помогут? Сейчас мне было бы легче писать тематическую картину, потому что меня уже не пугают взрослые люди, выражение их лиц и т. д.
Письмо к Е. Кибрику
5 ноября 1943, Сарапул
5 ноября 1943, Сарапул
(…) Если у меня будет вызов, то в конце ноября я приеду к тебе, предварительно сделав эскизы эстампов. Этим сейчас и занимаюсь. Может быть, на тему «Русские женщины». Сделаю несколько. Тема мне по душе. Вообще, здесь в Сарапуле пропасть материала. И я, по сути дела, как следует еще и не копнула. Но в Сибири все же красивее и величественнее — и природа, и типаж. За русским народом надо ехать туда. Это так, к слову.
Письмо к Е. Кибрику
7 ноября 1943, Сарапул
7 ноября 1943, Сарапул
7-го еду в колхоз. Вавиного отъезда не дождаться. Все же на днях или на неделе она уедет. Из-за этой задержки такой перерыв в письмах. Последнее время не работаю, потому что не было мастерской. А дома даже палитру негде вычистить. Вызова мне до сих пор нет. Если до Вавиного отъезда к тебе его все еще не будет, то, пожалуйста, сходи к Катуркину и пошлите (его) телеграфом. Денег кроме 2700 я не получала. Жду от тебя, от Катуркина и от театра на поездку 1000 руб. Никто не шлет. От А. Скибневского вместо денег получила поздравительную телеграмму. Очень утешительно.
Новый приехавший из Ижевска театр приглашает работать. Не знаю,
будет ли время и место. Мне хочется скорее в Москву. И скорее устроиться вместе жить. Последнее время я стала вновь плохо выглядеть. Нервничаю. Предельно тесно. Работать негде. Бегать по горкомам надоело. Арсений болен. Мама еле жива. Ребята всем надоели, и я от этого страдаю. И надо что-нибудь запасти для семьи. Неприятная перспектива.
Вещи мои (портреты) стоят в ящике на морозе, в комнату не влезают. Если растрескаются, не моя вина. Я борюсь сколько могу. Но стенки слишком толсты, и картины — это не водка, которой везде почет и уважение. Только в Москве хоть как-то получают право на жизнь.
Возможно, Вава уедет, пока я буду в колхозе. Возьмешь у нее квитанцию
и получишь багаж. Перевезти тебе его будет трудно, но на морозе скатывать вещи в рулон я побоялась. Попроси Катуркина помочь в доставке. Пишу адрес Всекохудожника и твою фамилию. Не забудь перед распаковкой сутки подержать в прохладном месте. Привет Алянскому и всем знакомым, и скажи, что об эстампах я подумаю.
Целую тебя крепко, жду встречи, вызова.
Лида
Новый приехавший из Ижевска театр приглашает работать. Не знаю,
будет ли время и место. Мне хочется скорее в Москву. И скорее устроиться вместе жить. Последнее время я стала вновь плохо выглядеть. Нервничаю. Предельно тесно. Работать негде. Бегать по горкомам надоело. Арсений болен. Мама еле жива. Ребята всем надоели, и я от этого страдаю. И надо что-нибудь запасти для семьи. Неприятная перспектива.
Вещи мои (портреты) стоят в ящике на морозе, в комнату не влезают. Если растрескаются, не моя вина. Я борюсь сколько могу. Но стенки слишком толсты, и картины — это не водка, которой везде почет и уважение. Только в Москве хоть как-то получают право на жизнь.
Возможно, Вава уедет, пока я буду в колхозе. Возьмешь у нее квитанцию
и получишь багаж. Перевезти тебе его будет трудно, но на морозе скатывать вещи в рулон я побоялась. Попроси Катуркина помочь в доставке. Пишу адрес Всекохудожника и твою фамилию. Не забудь перед распаковкой сутки подержать в прохладном месте. Привет Алянскому и всем знакомым, и скажи, что об эстампах я подумаю.
Целую тебя крепко, жду встречи, вызова.
Лида


