Часть 3
Москва. Первые годы в столице
1944-1949
“
Подражание старым формам не может быть реализмом, потому что сегодня не похоже на вчера.
ДНЕВНИК
1 ноября 1944, Москва
1 ноября 1944, Москва
«Постоянное местожительство» — Москва, ул. Мишина, 23. Первый этаж, низкие окошечки, потолки 2.20 см, некрашеный пол. Тихо, спокойно. Наши и Коля еще в Сарапуле, часть работ и мебель в Ленинграде.
И все-таки тихо, тихо. Писать еще не начала, пока занялась эстампами
в свободное от хозработ время.
Новая жизнь.
И все-таки тихо, тихо. Писать еще не начала, пока занялась эстампами
в свободное от хозработ время.
Новая жизнь.

А.Е. Кибрик
сын Лидии Тимошенко
Это наше жилище я уже помню. Мне оно казалось большим. Это была комната в форме равносторонней буквы «Г». В одной ее половине был темный тупик, в котором размещались топчаны и моя железная кровать с предохранительными сетками. Как-то потолок в этой части провалился (над нами жила семья скульптора Шульца), поэтому он был укреплен деревянным опорным столбом — примечательной архитектурной деталью квартиры, делавшей ее, как мне казалось, особенно уютной. Янтарные стены, обшитые фанерой, закрывающиеся на ночь дощатые ставни на двух наших окошках, в щели которых по утрам проникали солнечные лучи, создавая на стенах эффект волшебного фонаря. Можно было подолгу лежать и наблюдать на стене двигающиеся проекции редких на нашей окраинной тогда улице прохожих. Уличного движения здесь никакого не было, точнее, телеги иногда проезжали, а машина была редкостью, на которую дети гурьбой выбегали глазеть. Сейчас ничего не сохранилось от того ландшафта — ведь это в десяти минутах ходьбы от метро «Динамо»!
Барак наш был бревенчатым двухэтажным, довольно представительным строением. Отец рассказывал, что квартиру он возводил из руин методом «самостроя», ежедневно выдавая работягам зарплату водкой, которая каким-то образом бесплатно попала к нему в огромных количествах. Сам он жил в то время в мастерской, которая была у него на Масловке. (Да и наш барак имел какое-то отношение к городку художников, занимавшему на Масловке целый квартал. Интересно, что и сейчас в доме, который стоит на месте того барака, расположена столярная мастерская подрамников и багета, принадлежащая МОСХу.) Снаружи стена наша утеплялась завалинкой, в которой я с приятелем прятал клады — удивительно красивые рулоны спрессованной алюминиевой фольги, имевшей тогда широкое хождение и предназначенной, по нашему мнению, специально для мальчишеских игр.
Я был определен в детский сад, знакомство с которым было ознаменовано потасовкой: один из мальчуганов оседлал меня и огрел по затылку деревянным кубиком. Но сад я любил, так же как любил выезды на детские дачи. Запомнился один из первых моих праздников Нового года, в гостях у Ромадиных. Там стояла невиданная ранее елка, украшенная игрушками. В конце веселья каждому разрешили взять с елки по игрушке, кроме стеклянных, которых было штуки три-четыре. Я взял, кажется, серебряную черепаху, сделанную из тисненого картона.
Барак наш был бревенчатым двухэтажным, довольно представительным строением. Отец рассказывал, что квартиру он возводил из руин методом «самостроя», ежедневно выдавая работягам зарплату водкой, которая каким-то образом бесплатно попала к нему в огромных количествах. Сам он жил в то время в мастерской, которая была у него на Масловке. (Да и наш барак имел какое-то отношение к городку художников, занимавшему на Масловке целый квартал. Интересно, что и сейчас в доме, который стоит на месте того барака, расположена столярная мастерская подрамников и багета, принадлежащая МОСХу.) Снаружи стена наша утеплялась завалинкой, в которой я с приятелем прятал клады — удивительно красивые рулоны спрессованной алюминиевой фольги, имевшей тогда широкое хождение и предназначенной, по нашему мнению, специально для мальчишеских игр.
Я был определен в детский сад, знакомство с которым было ознаменовано потасовкой: один из мальчуганов оседлал меня и огрел по затылку деревянным кубиком. Но сад я любил, так же как любил выезды на детские дачи. Запомнился один из первых моих праздников Нового года, в гостях у Ромадиных. Там стояла невиданная ранее елка, украшенная игрушками. В конце веселья каждому разрешили взять с елки по игрушке, кроме стеклянных, которых было штуки три-четыре. Я взял, кажется, серебряную черепаху, сделанную из тисненого картона.
ДНЕВНИК
22 ноября 1944, Москва
22 ноября 1944, Москва
Живем спокойно. Отдыхаем, работаем. Только бы так всегда продолжалось. Все нужное у нас есть. Были бы все здоровы, и слава Богу.
5 декабря 1944, Москва
Метель, пронзительный ветер… Сумерки… Широкие обледенелые улицы, машины. Я возвращаюсь от Катуркина. Несколько дней назад он мне сказал: «Зайдите ко мне во вторник, я Вас снабжу всеми материалами к картине и дам даже набор импортных красок». Сегодня он мне сказал, что краски получить нельзя, потому что в первую очередь они должны удовлетворить тех, кто работает по договорам; и в общем из всего обещанного я получила только скверный холст, на котором нельзя писать картину. Наши краски он мне предложил, но я не взяла — так мне стало все противно. Я шла домой с привычным за последние три года ощущением человека, который из-за давки не может сесть в трамвай, которого выталкивают из поезда, сталкивают с каждой возможной дороги, потому что у него нет достаточных сил для борьбы за существование. Неторопливою усталой походкой зверя, привыкшего ко всяким переделкам, плетущегося с опущенным хвостом. Я шла домой, в уютную, тихую свою берлогу — сытым или голодным, но в ней можно переждать.
До войны — кое-какое признание, договора, перспективы (…) Четвертый год войны (…) Меня нет в мире художников. Мне нет места. Мне нет работы по договорам, со мною никто не хочет их заключить, а без договора я не могу получить материалов, а без материалов, без авторитета, без имени — как и что напишу?
Мне трудно. Было еще труднее, и эта трудность стала привычной. Нет
чувства возмущения, и так слаба обида, что она не нарушает спокойствия духа.
До войны — кое-какое признание, договора, перспективы (…) Четвертый год войны (…) Меня нет в мире художников. Мне нет места. Мне нет работы по договорам, со мною никто не хочет их заключить, а без договора я не могу получить материалов, а без материалов, без авторитета, без имени — как и что напишу?
Мне трудно. Было еще труднее, и эта трудность стала привычной. Нет
чувства возмущения, и так слаба обида, что она не нарушает спокойствия духа.
18 декабря 1944, Москва
Вчера и сегодня есть электричество. Месяц его не было. Сидела с коптилками и мрачнела с каждым днем все больше и больше. Доколе пережидать и что, и разве переждешь все трудности, когда чем дальше, тем труднее. А уже сорок лет.
Женя целыми днями сидит в мастерской над «Тарасом» с 9 утра до 10−11 вечера. Конечно, я ему завидую, но иначе, чем раньше. Раньше я требовала равенства, а сейчас? после трех с лишним лет одинокой с ребятами жизни я научилась брать от него то, что ему хочется дать. (…) Его счастье, что он мужчина, мое несчастье, что я женщина. Равняться бессмысленно. Кто-то должен уступать. Пусть это буду я.
Если мне удастся доказать силу своей живописи, эти строки приобретут
интерес, если нет — они будут пусты, как в таком случае и моя жизнь.
И так, и так не жалко. Мир огромен, хаотичен и неряшлив, как вокзал. Я
мала и слаба.
«Имя»! У меня нет имени! Я неизвестная художница (…) Творчество, которое никого не интересует! Буду работать или нет — всем безразлично. До войны я была талантливой и обещающей. Эвакуация меня стерла (…)
Женя целыми днями сидит в мастерской над «Тарасом» с 9 утра до 10−11 вечера. Конечно, я ему завидую, но иначе, чем раньше. Раньше я требовала равенства, а сейчас? после трех с лишним лет одинокой с ребятами жизни я научилась брать от него то, что ему хочется дать. (…) Его счастье, что он мужчина, мое несчастье, что я женщина. Равняться бессмысленно. Кто-то должен уступать. Пусть это буду я.
Если мне удастся доказать силу своей живописи, эти строки приобретут
интерес, если нет — они будут пусты, как в таком случае и моя жизнь.
И так, и так не жалко. Мир огромен, хаотичен и неряшлив, как вокзал. Я
мала и слаба.
«Имя»! У меня нет имени! Я неизвестная художница (…) Творчество, которое никого не интересует! Буду работать или нет — всем безразлично. До войны я была талантливой и обещающей. Эвакуация меня стерла (…)
2 января 1945, Москва
Новый год. Борюсь с грустью, с унынием.
Может быть, эта постоянная тьма и коптилки наводят тоску. Бессилие
достать керосиновую лампу, свечку, очень принижает человека. Долголетняя нужда, от которой в конце концов опускаются руки, и постоянное одиночество.
Может быть, эта постоянная тьма и коптилки наводят тоску. Бессилие
достать керосиновую лампу, свечку, очень принижает человека. Долголетняя нужда, от которой в конце концов опускаются руки, и постоянное одиночество.
8 января 1945, Москва
Бездействие продолжается. Пусто и скучно. Невозможно удовлетворяться только тем, что у тебя в комнате тепло. Скучно выбирать крупу, скучно мостить мостовую. Скучен однообразный, разбитый на мелочи, в отдельности не имеющие значения, труд. Так, несколько вбитых в землю камней не создают дорогу. И один человек вообще не может вымостить дорогу, но он — и только один — может написать «Мону Лизу».
8 февраля 1945, Москва
Без новизны и открытия немыслимо современное искусство. Все остальные качества — не качества. Истинно художественное в изобразительном искусстве — вновь открытый мир. Расширения видения. Только тот художник дает.
Остальные берут из карманов соседа и продают, то есть получают звания, деньги, почет за украденное. А так как украденное в искусстве и существующее в музеях в подлиннике действительно существует и отдано уже народу, то есть уже является собственностью народа, то эти художники продают пустоту под своей фамилией и, следовательно, приобретают звания, деньги, почет за ловкое вкручивание.
Остальные берут из карманов соседа и продают, то есть получают звания, деньги, почет за украденное. А так как украденное в искусстве и существующее в музеях в подлиннике действительно существует и отдано уже народу, то есть уже является собственностью народа, то эти художники продают пустоту под своей фамилией и, следовательно, приобретают звания, деньги, почет за ловкое вкручивание.
5 марта 1945, Москва
Пластика является следствием протекаемости формы и цвета, отсюда
и возможность гораздо сильнее напрягать цвет, потому что везде вплавляемый и поддерживаемый своими противоположными, он не может оторваться и выскочить при любой силе.
и возможность гораздо сильнее напрягать цвет, потому что везде вплавляемый и поддерживаемый своими противоположными, он не может оторваться и выскочить при любой силе.
22 марта 1945, Москва
(…) Если я хочу быть полезной в своей профессии, то мои работы должны быть закончены, сделаны и построены в порядке. А мы обижаемся, что у нас не принимают то, что мы сами не хотим принимать в других областях. Одних хороших обещаний мало. Доканчивать труднее всего. И вдвойне трудно, когда нет электричества, нет керосина, нет материалов для работы, когда кругом царствует ералаш, а ты должен быть собранным и творить гармонию.
Право, только идея о Боге может дать опору. В жизни бродишь среди руин, из которых нужно построить мир.
Право, только идея о Боге может дать опору. В жизни бродишь среди руин, из которых нужно построить мир.
“
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Д.А. ШМАРИНОВА
1981, Москва
Потом Лидия Яковлевна переезжает в Москву, в очень трудное время. Нужно было есть, нужна была крыша над головой, нужна была мастерская, нужно было все. Все было трудно, все было сложно. Я тогда был одним из руководителей Московского союза, прекрасно помню эти трудные годы. В эти годы Лидия Яковлевна остро пережила тему войны. Но как ее отразить в том круге образов, которыми она жила до сих пор? И она выбрала то, что было ей близко. Она взяла образ кавалерист-девицы Надежды Дуровой, молодой девушки, героини Отечественной войны 1812 года. Для этой картины она сделала много подготовительных рисунков и ряд портретов («С книгой», 1944 и др.), подготавливая себя к картине.
1981, Москва
Потом Лидия Яковлевна переезжает в Москву, в очень трудное время. Нужно было есть, нужна была крыша над головой, нужна была мастерская, нужно было все. Все было трудно, все было сложно. Я тогда был одним из руководителей Московского союза, прекрасно помню эти трудные годы. В эти годы Лидия Яковлевна остро пережила тему войны. Но как ее отразить в том круге образов, которыми она жила до сих пор? И она выбрала то, что было ей близко. Она взяла образ кавалерист-девицы Надежды Дуровой, молодой девушки, героини Отечественной войны 1812 года. Для этой картины она сделала много подготовительных рисунков и ряд портретов («С книгой», 1944 и др.), подготавливая себя к картине.

А.Е. Кибрик
сын Лидии Тимошенко
Маму в те годы я помню всегда за мольбертом, который стоял в освещенной двумя окошками части комнаты, на самом проходе. Мольберт, палитры, кисти, запах скипидара, керосина, масляных красок были для меня так же естественны, как трава на нашей не замощенной тогда улице. Это не вызывало ни удивления, ни интереса. Я видел ее всегда в процессе, но не помню, чтобы я изучал результат. «Дурову» она писала нескончаемо долго, и этот холст тоже был элементом естественной среды обитания. Из подражания я тоже все время рисовал, хотя способностей не имел никаких и уже тогда это понимал. Совсем иначе воспринималась мастерская отца, в которую меня водили редко. Подниматься надо было на чуде техники — лифте, походившем внутри на старинный шкаф, с большим зеркалом, в которое можно было вдоволь на себя насмотреться и накривляться. Мастерская казалась огромной (при ее 24 квадратных метрах) с высоченным потолком и антресолями из струганых досок с перилами. Там все было загадочно: фанерная лошадь — цилиндр с седлом, на котором можно было посидеть, всевозможные старинные костюмы, пики, мечи, кольчуги, высокая передвижная деревянная лестница, завершавшаяся смотровой площадкой, на которой страшно было стоять, глядя вниз. От этого отвлекала необходимость смотреть папины рисунки и высказывать мнение. Помню, как он показывал мне иллюстрации к «Тарасу Бульбе», и я вынужден был, кривя душой, сказать, что они мне нравятся, хотя меня, шестилетнего, почему-то пугала зернистость этих рисунков.
ДНЕВНИК
10 апреля 1945, Москва
10 апреля 1945, Москва
Когда в детстве на уроке физики я погружалась в капельку воды, падающую из крана, забывая о классе, об учителе, об уроке — и тем казалась другим нереальной, тогда как в действительности меня увлекала именно реальность, но реальность другого строя, — так же и сейчас постоянно меня увлекает реальность, но реальность других измерений. В скульптуре, в рисунке она невыразима, невозможна. Она выразима только цветом.
Цвет — это то же, что электричество, что радио, это тоже колебания световых и воздушных волн, и эмоции подобны им.
Цвет — это то же, что электричество, что радио, это тоже колебания световых и воздушных волн, и эмоции подобны им.
4 мая 1945, Москва
Весна. Корешки проснулись и набухли, пришло их время питать ростки.
Где-то под спудом, лучше не ворошить, слежавшаяся боль, оскорбленная неудовлетворенность. Передо мной моя Наденька — гордая, молодая Ева, сорвавшая зеленые яблоки и состригшая свои косы…
Где-то под спудом, лучше не ворошить, слежавшаяся боль, оскорбленная неудовлетворенность. Передо мной моя Наденька — гордая, молодая Ева, сорвавшая зеленые яблоки и состригшая свои косы…

А.Е. Кибрик
сын Лидии Тимошенко
Эта запись приоткрывает завесу авторского замысла, который, когда его знаешь, становится таким очевидным. Действительно, запечатлен момент перехода героини в совершенно новое состояние: из невинного девичества под родительским кровом — в грозную взрослую мужскую военную жизнь. И действительно, на столе ненавязчиво мерцают в свете свечи только что сорванные яблоки, «положенные» туда художником далеко не случайно. И героиня картины — это одна из метаморфоз прародительницы Евы, образ которой, покидая границы древнего мифа, приобретает вневременное значение. Тема эта, видимо, волновала художницу и ранее (вспомним ее «Собирают яблоки», «Под яблоней» в разных вариантах), и на склоне лет (осталась неоконченной ее последняя картина «Адам и Ева в раю», под сенью могучей яблони с искушающими их плодами).
ДНЕВНИК
16 октября 1945, Москва
16 октября 1945, Москва
«Дурова» окончена.
Не совсем-то она вышла, слишком многое мешало. А я совсем одичала и загрустила. Может быть, сказывается мой затворнический образ жизни, а может быть, постарела и не верю в радость. Во всяком случае, когда к нам кто-нибудь приходит, мне становится неловко и страшно скучно. Не хочется ни слушать, ни говорить. Живу, преодолевая чувство отвращения к жизни. Привычное отвращение, которое я пытаюсь скрывать, чтобы не быть невозможной.
Все же я многое люблю, и люблю писать.
«Дурова» кончена. Она затеряется в толпе пошлых картин, хотя заслуживает внимания, несмотря на много недостатков. Но может быть, так нужно. Буду писать дальше, под Жениной сенью.
Не совсем-то она вышла, слишком многое мешало. А я совсем одичала и загрустила. Может быть, сказывается мой затворнический образ жизни, а может быть, постарела и не верю в радость. Во всяком случае, когда к нам кто-нибудь приходит, мне становится неловко и страшно скучно. Не хочется ни слушать, ни говорить. Живу, преодолевая чувство отвращения к жизни. Привычное отвращение, которое я пытаюсь скрывать, чтобы не быть невозможной.
Все же я многое люблю, и люблю писать.
«Дурова» кончена. Она затеряется в толпе пошлых картин, хотя заслуживает внимания, несмотря на много недостатков. Но может быть, так нужно. Буду писать дальше, под Жениной сенью.
“
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. ВАРНОВИЦКОЙ
1986, Москва
Впервые я услышала заинтриговавший меня отзыв о Лидии Тимошенко-Кибрик в 1940 году от Д. А. Шмаринова, вернувшегося из Ленинграда. Рассказывая о ленинградских встречах, о знакомстве с Е. Кибриком, он сказал, что его жена — это ленинградская Варновицкая. Поэтому, когда лет через пять мы встретились уже в Москве, мне очень хотелось познакомиться с ее работами. То, что я увидела
тогда, скорее мне показалось близким к Н. М. Чернышеву. Это были этюды маслом, темой их были девочки-подростки, и она так же лирично и влюбленно рассказывала о их угловатой грации. Как следствие этих этюдов, возникла прелестная литография «Катюша», солнечная и радостная. В литографии Лидия Яковлевна была большим
мастером, она прекрасно владела ее средствами и позже сделала много очень хороших и выразительных литографий, объединенных общей темой — цветы.
Но вернусь к знакомству. Мы стали довольно часто встречаться, и я тогда (1945 год) написала ее акварельный портрет, который находится в Киевском музее. Так как и тогда ее здоровье было хрупким, я писала ее лежащей в постели, но оживленной и энергичной. В эти годы она работала над картиной — портретом Надежды Дуровой, и как мне казалось, образ был задуман и решен интересно.
К сожалению, наши встречи не перешли в дружбу, так как едкий ум Лидии Яковлевны влиял на меня негативно. После каждой беседы у меня возникало чувство, что почва под моими ногами становится зыбкой, а мне в те годы жилось нелегко и нужна была собранность и уверенность для борьбы с жизнью, и я стала отходить в сторону. Знакомство наше продолжалось, но очень издали.
1986, Москва
Впервые я услышала заинтриговавший меня отзыв о Лидии Тимошенко-Кибрик в 1940 году от Д. А. Шмаринова, вернувшегося из Ленинграда. Рассказывая о ленинградских встречах, о знакомстве с Е. Кибриком, он сказал, что его жена — это ленинградская Варновицкая. Поэтому, когда лет через пять мы встретились уже в Москве, мне очень хотелось познакомиться с ее работами. То, что я увидела
тогда, скорее мне показалось близким к Н. М. Чернышеву. Это были этюды маслом, темой их были девочки-подростки, и она так же лирично и влюбленно рассказывала о их угловатой грации. Как следствие этих этюдов, возникла прелестная литография «Катюша», солнечная и радостная. В литографии Лидия Яковлевна была большим
мастером, она прекрасно владела ее средствами и позже сделала много очень хороших и выразительных литографий, объединенных общей темой — цветы.
Но вернусь к знакомству. Мы стали довольно часто встречаться, и я тогда (1945 год) написала ее акварельный портрет, который находится в Киевском музее. Так как и тогда ее здоровье было хрупким, я писала ее лежащей в постели, но оживленной и энергичной. В эти годы она работала над картиной — портретом Надежды Дуровой, и как мне казалось, образ был задуман и решен интересно.
К сожалению, наши встречи не перешли в дружбу, так как едкий ум Лидии Яковлевны влиял на меня негативно. После каждой беседы у меня возникало чувство, что почва под моими ногами становится зыбкой, а мне в те годы жилось нелегко и нужна была собранность и уверенность для борьбы с жизнью, и я стала отходить в сторону. Знакомство наше продолжалось, но очень издали.
ДНЕВНИК
2 декабря 1945, Москва
2 декабря 1945, Москва
Боюсь, что «Дурова» не пройдет на выставку при тайном голосовании.
Комитету она не нравится. Писала ее я не по заказу, без договора. Она будет беззащитна. Скверная история. Придется снова жить дичком, незаконно. Без права занимать место среди художников. А я устала. И все же надо действовать и бороться.
Комитету она не нравится. Писала ее я не по заказу, без договора. Она будет беззащитна. Скверная история. Придется снова жить дичком, незаконно. Без права занимать место среди художников. А я устала. И все же надо действовать и бороться.
13 декабря 1945, Москва
«Дурова» принята на выставку.
Ремонт сделан. Женя уехал за мебелью в Ленинград. А мне что-то очень грустно. Как будто потеряла то, чего никогда уже не найдешь. Наверное, потому что давно не работаю.
Ремонт сделан. Женя уехал за мебелью в Ленинград. А мне что-то очень грустно. Как будто потеряла то, чего никогда уже не найдешь. Наверное, потому что давно не работаю.

А.Е. Кибрик
сын Лидии Тимошенко
Картина «Кавалерист-девица Надежда Дурова» была закуплена и более нигде при жизни ее автора не выставлялась. Когда готовилась посмертная персональная выставка Л. Тимошенко, начались розыски картины. Она была некогда передана в клуб им. III Интернационала в Люберцах. Директор клуба о ней ничего не знал, но в бухгалтерских книгах она значилась. Оказалось, что картина хранится в подвальном помещении за трубами отопления. Наконец, через 35 лет, она была извлечена на свет. Время не прошло для нее бесследно, но она была все-таки спасена. «Это работа, — сказал о ней Д. Шмаринов, — которая останется в нашем искусстве».
ДНЕВНИК
10 января 1946, Москва
10 января 1946, Москва
Не работаю.
Мебель здесь, и по возможности все устроено.
Была на юбилейной выставке С. В. Герасимова. Большая, длинная жизнь. Живописец, колорист. Великолепные акварели, несколько пейзажей, букеты цветов, хорошие иллюстрации. А картины плохие, плоские и без смысла. Умный человек, а в картинах пусто. (…) А человек умный и боролся упорно. А за что боролся? За колорит в картине? (…) Только содержание рождает новую форму.
Сижу на диване. Руки побаливают от тяжестей и мытья, ломит их. Сама вялая, очень утомленная. Смогу ли начать, так не в форме, работу?
И все в двойной нагрузке. Хозяйство, дети, работа. Все некрасовская женщина пашет, жнет, а дитя под кустом сидит. Слава ей, но ни славы,
ни имени ее в нашей русской истории нету, хотела найти и написать, да
кроме Ольги да Софьи, да вот еще Дуровой и придумать ничего не могу! Ну, посмотрим.
Мебель здесь, и по возможности все устроено.
Была на юбилейной выставке С. В. Герасимова. Большая, длинная жизнь. Живописец, колорист. Великолепные акварели, несколько пейзажей, букеты цветов, хорошие иллюстрации. А картины плохие, плоские и без смысла. Умный человек, а в картинах пусто. (…) А человек умный и боролся упорно. А за что боролся? За колорит в картине? (…) Только содержание рождает новую форму.
Сижу на диване. Руки побаливают от тяжестей и мытья, ломит их. Сама вялая, очень утомленная. Смогу ли начать, так не в форме, работу?
И все в двойной нагрузке. Хозяйство, дети, работа. Все некрасовская женщина пашет, жнет, а дитя под кустом сидит. Слава ей, но ни славы,
ни имени ее в нашей русской истории нету, хотела найти и написать, да
кроме Ольги да Софьи, да вот еще Дуровой и придумать ничего не могу! Ну, посмотрим.
15 января 1946, Москва
Собираюсь писать Зою Космодемьянскую. Русского Себастьяна, но женщину, и притом зимой. Перед глазами стоит тициановский Себастьян, любимый мною с детства. Много я перед ним простаивала. Удастся ли написать?
1946, Москва
Подражание старым формам не может быть реализмом, потому что сегодня не похоже на вчера. Форма должна быть настолько различной, насколько различна жизнь во времени, и настолько сходна, насколько есть сходства между нынешними и прошлыми эпохами. Но новая форма пугает больше нового содержания, потому что оно уже кругом нас, а форму мы создаем, стараясь его выразить, и та ли она? А вдруг не та?
Вот почему оценивать вещи можно только исходя из их содержания, и если содержание передано живо и убедительно, если оно живет и дышит в жизни, значит, надо принимать форму, в которой художнику удалось его создать.
Содержание — страсть, ненависть к врагу — нашли форму, которая помогла нам выиграть войну. И наоборот, если бы нас заставляли воевать по каким-то старым образцам стратегии и тактики, мы неизбежно бы ее проиграли.
Вот почему оценивать вещи можно только исходя из их содержания, и если содержание передано живо и убедительно, если оно живет и дышит в жизни, значит, надо принимать форму, в которой художнику удалось его создать.
Содержание — страсть, ненависть к врагу — нашли форму, которая помогла нам выиграть войну. И наоборот, если бы нас заставляли воевать по каким-то старым образцам стратегии и тактики, мы неизбежно бы ее проиграли.
“
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Т. ВЕБЕР
1985, Москва
После эвакуации Лидии Яковлевны мы встретились как старые друзья в Москве, на Масловке. Сначала семья Кибриков жила в бараке, потом в Коленчатом переулке. Было трудно, часто голодно и холодно, но война кончалась, а мы были сравнительно молоды.
Творческой, мятущейся натуре Лидии Яковлевны, часто экзальтированной, неудовлетворенной собой, сложностями быта, тоской по Ленинграду, трудно было приняться за работу. Ее, художника-патриота, волновали большие темы, сложные проблемы искусства и его роли в военные и послевоенные годы. Не случаен выбор сюжетов для масштабных полотен «Зоя» и «Кавалерист-девица Надежда Дурова». Это было время поиска наибольшей выразительности, острого чувства современности, особенно ярко воплотившегося в портретах современников. Было написано большое количество красивых, содержательных пейзажей, букетов. Работала она и в литографской мастерской и все успевала, хотя начиналась тяжелая болезнь, часто приковывавшая ее к постели.
1985, Москва
После эвакуации Лидии Яковлевны мы встретились как старые друзья в Москве, на Масловке. Сначала семья Кибриков жила в бараке, потом в Коленчатом переулке. Было трудно, часто голодно и холодно, но война кончалась, а мы были сравнительно молоды.
Творческой, мятущейся натуре Лидии Яковлевны, часто экзальтированной, неудовлетворенной собой, сложностями быта, тоской по Ленинграду, трудно было приняться за работу. Ее, художника-патриота, волновали большие темы, сложные проблемы искусства и его роли в военные и послевоенные годы. Не случаен выбор сюжетов для масштабных полотен «Зоя» и «Кавалерист-девица Надежда Дурова». Это было время поиска наибольшей выразительности, острого чувства современности, особенно ярко воплотившегося в портретах современников. Было написано большое количество красивых, содержательных пейзажей, букетов. Работала она и в литографской мастерской и все успевала, хотя начиналась тяжелая болезнь, часто приковывавшая ее к постели.
ПИСЬМА К И. ГИНЗБУРГ
10 октября 1946, Москва
10 октября 1946, Москва
Беллочка!
Передо мной белый профиль чистого, молодого, темнобрового лица, с чуть заметной улыбкой, с толстой косой вокруг головы, в темном, строгом сатиновом платье с белым воротником. Это моя мертвая мама в гробу (…) Моя живая, но очень спокойная, прохладная мама (…) 15 августа с детьми я приехала в Ленинград на Лахту. 18-го мама умерла.
15−16-го она выходила даже в сад. Она плакала, радуясь встрече. 18-го, истекая кровью, она шептала: «Как жалко крови, все льет, льет.» Было жарко и очень тихо. Мы сидели около нее трое (Вава, Арсений), в восьмом часу с заходом солнца, не приходя в сознание, она тихо перестала дышать.
В Ленинграде я была у вас, хотя и знала, что вы на курорте, — постояла
у двери.
В Ленинграде было так пусто и так нереально среди оживших воспоминаний.
(…) Эскиз к «Зое» сделан и принят. Я ее делаю для Комитета РСФСР. Она может полностью выразить то, что у меня в душе. Зоя на фоне неба, прорезанного рассветным желтым лучом. Мрачное тяжелое небо. Целая симфония мрачных красок, утренних и в пленэре, что мне приятнее, чем ночные, комнатные. Впрочем, «Дурову» не забивают и до сих пор хвалят, а живописное мастерство в ней общепризнанно, вплоть до Серова. Но «Зоя» будет лучше, острее, а главное — она выражает все-все, чем я живу или что живет во мне. Но работаю мало. Все болею и задыхаюсь в темноте и быте, который не меняется к лучшему. Мамина смерть меня потрясла (…)
Передо мной белый профиль чистого, молодого, темнобрового лица, с чуть заметной улыбкой, с толстой косой вокруг головы, в темном, строгом сатиновом платье с белым воротником. Это моя мертвая мама в гробу (…) Моя живая, но очень спокойная, прохладная мама (…) 15 августа с детьми я приехала в Ленинград на Лахту. 18-го мама умерла.
15−16-го она выходила даже в сад. Она плакала, радуясь встрече. 18-го, истекая кровью, она шептала: «Как жалко крови, все льет, льет.» Было жарко и очень тихо. Мы сидели около нее трое (Вава, Арсений), в восьмом часу с заходом солнца, не приходя в сознание, она тихо перестала дышать.
В Ленинграде я была у вас, хотя и знала, что вы на курорте, — постояла
у двери.
В Ленинграде было так пусто и так нереально среди оживших воспоминаний.
(…) Эскиз к «Зое» сделан и принят. Я ее делаю для Комитета РСФСР. Она может полностью выразить то, что у меня в душе. Зоя на фоне неба, прорезанного рассветным желтым лучом. Мрачное тяжелое небо. Целая симфония мрачных красок, утренних и в пленэре, что мне приятнее, чем ночные, комнатные. Впрочем, «Дурову» не забивают и до сих пор хвалят, а живописное мастерство в ней общепризнанно, вплоть до Серова. Но «Зоя» будет лучше, острее, а главное — она выражает все-все, чем я живу или что живет во мне. Но работаю мало. Все болею и задыхаюсь в темноте и быте, который не меняется к лучшему. Мамина смерть меня потрясла (…)
28 октября 1946, Москва
(…) Зоя переходит в свой дом. На холст, для нее приготовленный. Мамина смерть сделала для меня очень мучительной работу над Зоей. Мне хотелось бы писать природу, уходящие дали и первым планом цветы и траву. Что-нибудь здоровое, простое и безличное. А «Зоя» вся в предельном напряжении и на грани смерти, которую я только что наблюдала.
(…) Ранние мои работы на фронте нашего искусства остались уникальными, и никто их не повторит, эти еще ярче обособлены и содержанием, и живописью, и «школой».
(…) Ранние мои работы на фронте нашего искусства остались уникальными, и никто их не повторит, эти еще ярче обособлены и содержанием, и живописью, и «школой».
20 декабря 1946, Москва
Беллочка!
Как все-таки хорошо, что есть жилище со стенками, подпольем. Сухое,
теплое, а главное — есть окошко, через которое земля и снег, и небо так близко. Я почти никуда не выходу и у окошка сижу много. Все же душа моя вряд ли поправится.
А мама лежит в Шувалове на песчаной горе, под которой расстилается
озеро.
Все эти чувства лишь лессировками или скрипкой можно передать.
С «Зоей» понемножку вожусь.
Все то, что во мне развивается, развивается с адской последовательностью, начиная с портрета М. Асламазян — это и есть призвание, то есть служение искусству, без каких-либо спекулятивных намерений. Но (…) спасибо Жене, а то бы я давно с голоду померла со своими лессировками, под которыми я подразумеваю человеческие темы, раскрытые звучанием и вибрациями цвета.
(…) Выпал снег… Красота необычайная, острая, (…) за сердце хватающая. Но ни солнца, ни смеха нет. Зоя — такая, и со слезинками на глазах. А рассуждать о темах я не умею.
Как странно, что меня могут ругать за мрачность.
Трудно больше любить радость и радостные краски, чем я любила, вы ведь знаете (…)
(…) У меня все несколько изменилось к лучшему. Но я суеверна и боюсь даже писать об этом. Очень хочу «Зою» окончить к своей выставке, а задерживаюсь, потому что нет ясных восходов солнца, которые мне нужны. Просыпаюсь и вижу снова пасмурное серое утро.
Как все-таки хорошо, что есть жилище со стенками, подпольем. Сухое,
теплое, а главное — есть окошко, через которое земля и снег, и небо так близко. Я почти никуда не выходу и у окошка сижу много. Все же душа моя вряд ли поправится.
А мама лежит в Шувалове на песчаной горе, под которой расстилается
озеро.
Все эти чувства лишь лессировками или скрипкой можно передать.
С «Зоей» понемножку вожусь.
Все то, что во мне развивается, развивается с адской последовательностью, начиная с портрета М. Асламазян — это и есть призвание, то есть служение искусству, без каких-либо спекулятивных намерений. Но (…) спасибо Жене, а то бы я давно с голоду померла со своими лессировками, под которыми я подразумеваю человеческие темы, раскрытые звучанием и вибрациями цвета.
(…) Выпал снег… Красота необычайная, острая, (…) за сердце хватающая. Но ни солнца, ни смеха нет. Зоя — такая, и со слезинками на глазах. А рассуждать о темах я не умею.
Как странно, что меня могут ругать за мрачность.
Трудно больше любить радость и радостные краски, чем я любила, вы ведь знаете (…)
(…) У меня все несколько изменилось к лучшему. Но я суеверна и боюсь даже писать об этом. Очень хочу «Зою» окончить к своей выставке, а задерживаюсь, потому что нет ясных восходов солнца, которые мне нужны. Просыпаюсь и вижу снова пасмурное серое утро.
22 декабря 1946, Москва
Если ничего не случится плохого, то думаю к середине января приехать
в Ленинград за картинами; к тому же мне перед выставкой хочется обязательно с всеми повидаться и поговорить.
«Зою» трудно писать, потому что в ней все так просто, что эту простоту — чтобы она не превратилась в пустоту — можно только напряжением
своего собственного нутра оживить. В основном это одинокая фигура на фоне неба, причем она «просто стоит»; я же должна выразить Зою, говорящую перед народом речь. Причем она чуть больше натуральной величины, что тоже представляет трудность в смысле наполнения, при уменьшении легче (…)
в Ленинград за картинами; к тому же мне перед выставкой хочется обязательно с всеми повидаться и поговорить.
«Зою» трудно писать, потому что в ней все так просто, что эту простоту — чтобы она не превратилась в пустоту — можно только напряжением
своего собственного нутра оживить. В основном это одинокая фигура на фоне неба, причем она «просто стоит»; я же должна выразить Зою, говорящую перед народом речь. Причем она чуть больше натуральной величины, что тоже представляет трудность в смысле наполнения, при уменьшении легче (…)
10 февраля 1947, Москва
(…) Не знаю, что даст мне выставка в общественном смысле, лично — несомненно даст. Потому что даже поездка в Ленинград и осмотр старых работ очень меня встряхнул, обнадежил, как-то и к «Зое» дал подойти проще и смелее.
2 мая 1947, Москва
«Зою» пишу мучительно. Видели ее только двое: Галушкина и Белашова. В разное время, но обе сказали одно и то же. Что «Зоя» зрелее, мужественнее и свободнее всего предыдущего.
Меня спрашивают, где я нахожу такие модели, как Зою и Дурову. Их нет. Теперь я пишу наизусть, изучив предварительно натуру. Ни этюды, ни модели меня не удовлетворяют. Это совсем новый способ работы. Мучительный и трудоемкий. Но только «из себя» можно написать идейный образ.
«Дурова» взволновала многих, и мне часто говорят, что она одна из лучших вещей, сделанных в советском искусстве, да, ну, а «Зоя» будет решительней. Кто бы мог предвидеть, что мои детские бездумные элегии разовьются в драмы? Такова жизнь, и так вышло, потому что я люблю жизнь помимо и вне себя, а мне бросали упрек: что общего между тем и этим? Как вы могли и почему и т. п. Просто потому, что я иду с жизнью. Вглядываюсь в нее, и все.
Белочка, меня просто мучает, что вы меня новую и совсем, совсем непохожую на довоенную — не знаете. «Дурову» писала год. «Зою» пишу год, а ее лицо и толпа еще не закончены. Но как вы были правы, когда написали, что после Стеллы я стану другой. Вы были смелы до дерзости, и такой второй нет в критике.
Да, знаете, кто превратился в моего поклонника, потрясенного «дорогой, на которую я вышла», «размерами таланта» и прочее? Ленинградский Лактионов! По этому можете судить о «законченности» «Дуровой».
Раньше все было легко, а сейчас все трудно писать: и рука, и кофточка,
и небо, и лицо — все, все заставляет мучиться. Зоя предельно статична
и скупа по силуэту. Представьте себе фигуру в профиль и лицо, повернутое на зрителя. Пластически плечо на зрителя — довольно трудная штука, да еще в черном. И вот в этой сжатой, предельно ровной невыигрышной форме должны жить страсть, напряжение, движение, сама жизнь.
Было с чем повозиться. Но зато, Беллочка, чем скупее — тем больше благородства, никаких фальшивых эффектов, ничего отвлекающего от передачи психологии. Как будто я сама себя сжимаю. Передать судорожную сжатость рук — без жеста, мускулатурой, цветом. Страсть в лице, движение губ, сверкание гнева во взгляде при внешней статике формы — вот что меня влечет. То есть, понимаете, это прямая борьба против театральности и декоративности. В какой-то мере это борьба со своим прошлым (…)
Материнство хочу писать совсем иначе. Хочу отдохнуть и написать с натуры мать с ребенком, и все. Это будет передышкой. На даче есть и мать, и ребенок. Оба милы. В «Зое» еще куча проклятых немцев!
Меня спрашивают, где я нахожу такие модели, как Зою и Дурову. Их нет. Теперь я пишу наизусть, изучив предварительно натуру. Ни этюды, ни модели меня не удовлетворяют. Это совсем новый способ работы. Мучительный и трудоемкий. Но только «из себя» можно написать идейный образ.
«Дурова» взволновала многих, и мне часто говорят, что она одна из лучших вещей, сделанных в советском искусстве, да, ну, а «Зоя» будет решительней. Кто бы мог предвидеть, что мои детские бездумные элегии разовьются в драмы? Такова жизнь, и так вышло, потому что я люблю жизнь помимо и вне себя, а мне бросали упрек: что общего между тем и этим? Как вы могли и почему и т. п. Просто потому, что я иду с жизнью. Вглядываюсь в нее, и все.
Белочка, меня просто мучает, что вы меня новую и совсем, совсем непохожую на довоенную — не знаете. «Дурову» писала год. «Зою» пишу год, а ее лицо и толпа еще не закончены. Но как вы были правы, когда написали, что после Стеллы я стану другой. Вы были смелы до дерзости, и такой второй нет в критике.
Да, знаете, кто превратился в моего поклонника, потрясенного «дорогой, на которую я вышла», «размерами таланта» и прочее? Ленинградский Лактионов! По этому можете судить о «законченности» «Дуровой».
Раньше все было легко, а сейчас все трудно писать: и рука, и кофточка,
и небо, и лицо — все, все заставляет мучиться. Зоя предельно статична
и скупа по силуэту. Представьте себе фигуру в профиль и лицо, повернутое на зрителя. Пластически плечо на зрителя — довольно трудная штука, да еще в черном. И вот в этой сжатой, предельно ровной невыигрышной форме должны жить страсть, напряжение, движение, сама жизнь.
Было с чем повозиться. Но зато, Беллочка, чем скупее — тем больше благородства, никаких фальшивых эффектов, ничего отвлекающего от передачи психологии. Как будто я сама себя сжимаю. Передать судорожную сжатость рук — без жеста, мускулатурой, цветом. Страсть в лице, движение губ, сверкание гнева во взгляде при внешней статике формы — вот что меня влечет. То есть, понимаете, это прямая борьба против театральности и декоративности. В какой-то мере это борьба со своим прошлым (…)
Материнство хочу писать совсем иначе. Хочу отдохнуть и написать с натуры мать с ребенком, и все. Это будет передышкой. На даче есть и мать, и ребенок. Оба милы. В «Зое» еще куча проклятых немцев!

А.Е. Кибрик
сын Лидии Тимошенко
В течение ряда лет мы снимали дачу по Савеловской дороге в деревне Шуколово, недалеко от ст. Турист. В те годы это было очень удаленное от Москвы место, не тронутое цивилизацией и городом. Изредка ходил пригородный паровозик, далекие гудки которого вспоминаются с той же ностальгией, что для людей старшего поколения — звон колоколов. Места там холмистые, деревни (Целеево, Новлянки, знаменитое Парамоново) стоят на взгорьях (подмосковная Швейцария, как писалось в дореволюционных «путеводителях»), и само Шуколово растянулось двумя строчками изб от подошвы до вершины холма, венчаемого церковью с колокольней. Сейчас Шуколово — излюбленное место зимнего слалома, оно наводнено туристами, обстановка в нем ненамного отличается от окрестностей трамплина на Воробьевых горах. Тогда же это была настоящая глубинка, настоящее царство нетронутой природы. В бедном послевоенном колхозе лошадей было мало, пахали и возили сено на быках, жали вручную серпом — еще сохранился многовековый уклад крестьянской жизни, в которую уже, правда, вторгался технический прогресс: использовались механические сеялки, сенокосилки и сеноворошилки на конском ходу, на крытом колхозном гумне близ кладбища молотили хлеб машинами, приводимыми в движение ходящими по кругу лошадьми или теми же волами (позднее появились электрические молотилки). «Прогресс» шагнул и в игры деревенских ребятишек, с которыми я очень хотел подружиться. В ответ на мои старания не выделяться, быть таким же, как они, мне было предложено (как городскому) поездить в тачке, запряженной моими сверстниками — до меня такую привилегию имел только председательский сынок.
Мы занимали самый большой в деревне дом, когда-то принадлежавший священнику, служившему в церкви напротив. Дом был сложен из добротных бревен, внутри тесаных и гладких, в центре стояла русская печь с лежанкой, помещение было разделено дощатыми перегородками на четыре небольшие комнаты. В самой просторной из них, в четыре окна на две стороны, была мамина мастерская. Но писала она «Зою» часто во дворе. Наша хозяйка послужила прообразом крестьянки, горестно стоявшей на первом плане сцены, а ее сын выступал в роли «проклятого немца» — очень ему это не нравилось, не представляю, как удалось уговорить его на такой «подвиг».
В деревне было полное раздолье, бреди куда хочешь. Только нашего дворнягу Мишку пришлось держать на цепи, но даже после этих мер соседние крестьянки носили маме будто бы «задранных» им кур.
Несмотря на свою работу, мама усердно занималась со мной сельским хозяйством на выделенной хозяевами земле: мы копали грядки, сажали, пололи, поливали. Как-то в колхозе продавали инкубаторских цыплят, и мы их принялись разводить, соорудив из прутьев плетеный загончик. Это было занятие на все лето. Но когда дело дошло до развязки и хозяин при мне отрубил голову одному из них, я взбунтовался, и не знаю, куда цыплята в конце концов делись.
Мы занимали самый большой в деревне дом, когда-то принадлежавший священнику, служившему в церкви напротив. Дом был сложен из добротных бревен, внутри тесаных и гладких, в центре стояла русская печь с лежанкой, помещение было разделено дощатыми перегородками на четыре небольшие комнаты. В самой просторной из них, в четыре окна на две стороны, была мамина мастерская. Но писала она «Зою» часто во дворе. Наша хозяйка послужила прообразом крестьянки, горестно стоявшей на первом плане сцены, а ее сын выступал в роли «проклятого немца» — очень ему это не нравилось, не представляю, как удалось уговорить его на такой «подвиг».
В деревне было полное раздолье, бреди куда хочешь. Только нашего дворнягу Мишку пришлось держать на цепи, но даже после этих мер соседние крестьянки носили маме будто бы «задранных» им кур.
Несмотря на свою работу, мама усердно занималась со мной сельским хозяйством на выделенной хозяевами земле: мы копали грядки, сажали, пололи, поливали. Как-то в колхозе продавали инкубаторских цыплят, и мы их принялись разводить, соорудив из прутьев плетеный загончик. Это было занятие на все лето. Но когда дело дошло до развязки и хозяин при мне отрубил голову одному из них, я взбунтовался, и не знаю, куда цыплята в конце концов делись.
“
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ХУДОЖНИЦЫ А. МОТОРНОЙ
1985, Москва
С Лидией Яковлевной мы познакомились совершенно случайно — на выставке. Она, видимо, восхищалась пейзажами С. В. Герасимова, я тоже подолгу смотрела на них и возвращалась к ним. Тут она улыбнулась и сказала: «Встреча поклонниц, кто Вы?» Давно мне были знакомы ее работы, и я любила их, воспринимала ее как широко и глубоко мыслящего и чувствующего реалиста. Потом мы еще раз встретились и познакомились окончательно, а летом жили вместе на даче с нашими сыновьями, двумя Сашами, в деревне Шуколово близ Туриста. Кибрики обитали на горке, мы под горкой. Наши дети еще больше сблизили нас. Как человека я узнала и оценила Лидию Яковлевну (и, конечно, ее творчество) на фоне чудесной природы. Так как, что бы она ни делала, она всегда «не отходила» от той работы, которой была поглощена. Она как будто бы просыпалась ненадолго, когда варила каши или делала котлеты. Мысли ее были далеко…
Мальчики чудесно и дружно проводили время, дополняя своей фантазией один другого. С утра Саша Кибрик уже был у нас с озабоченным видом, полный идей и фантазий, тут же на лету подхваченных моим сыном. Решался вопрос, с чего начать день. Деревенские ребятишки неизменно входили в их компанию, когда дело касалось игры в казаки-разбойники, а чаще — в войну. Причем никому не хотелось быть немцами, поэтому эту незавидную роль исполняли по очереди, чтобы никому не
было обидно. Когда же они решили устроить спектакль «Красная Шапочка», они обычно после обеда обсуждали и творили у нас на террасе. Мы с Лидией Яковлевной не мешали им и только помогали, отвечая на их сомнения и вопросы. Часто они бежали на горку, и Лидия Яковлевна старалась вникнуть в их дела на полном серьезе. В вопросе декораций она была главной помощницей, я — по костюмной части (реквизит создавался из всех подручных материалов, в основном покрашенных акварелью газет, много хлопот доставила маска Волка). Декорации были придуманы Лидией Яковлевной с удачным использованием деревьев на заднем плане и прибавкой больших веток. Сценическая площадка состояла из четырех высоких колышков, сверху соединенных веревкой. Когда было нужно, лес органически входил на сцену, когда же был домик бабушки, на веревку вешали холст, закрывавший «лес», лишние ветки убирались, ставилась лавка и маленькие скамеечки. Один Саша изображал Волка, а другой — Красную Шапочку, бабушку и, наконец, грозного дровосека. Лидия Яковлевна и я были костюмерами и рабочими сцены во время представления. Спектакль прошел с большим успехом у местных детей, было также несколько взрослых.
Три года летом мы жили с детьми в этой деревне. Лидия Яковлевна мужественно успевала все одна, творила, как всегда, с натуры и делала эскизы, пока варился обед. Лицо ее было сосредоточено, она полностью уходила в работу и думала о ней… Считается, что Цезарь мог одновременно делать три дела — диктовал приказы, читал, отдавал распоряжения… Лидия Яковлевна умела соединять несоединимое: хозяйство, воспитание детей с творчеством на высоком уровне, потому что душа ее творила всегда.
1985, Москва
С Лидией Яковлевной мы познакомились совершенно случайно — на выставке. Она, видимо, восхищалась пейзажами С. В. Герасимова, я тоже подолгу смотрела на них и возвращалась к ним. Тут она улыбнулась и сказала: «Встреча поклонниц, кто Вы?» Давно мне были знакомы ее работы, и я любила их, воспринимала ее как широко и глубоко мыслящего и чувствующего реалиста. Потом мы еще раз встретились и познакомились окончательно, а летом жили вместе на даче с нашими сыновьями, двумя Сашами, в деревне Шуколово близ Туриста. Кибрики обитали на горке, мы под горкой. Наши дети еще больше сблизили нас. Как человека я узнала и оценила Лидию Яковлевну (и, конечно, ее творчество) на фоне чудесной природы. Так как, что бы она ни делала, она всегда «не отходила» от той работы, которой была поглощена. Она как будто бы просыпалась ненадолго, когда варила каши или делала котлеты. Мысли ее были далеко…
Мальчики чудесно и дружно проводили время, дополняя своей фантазией один другого. С утра Саша Кибрик уже был у нас с озабоченным видом, полный идей и фантазий, тут же на лету подхваченных моим сыном. Решался вопрос, с чего начать день. Деревенские ребятишки неизменно входили в их компанию, когда дело касалось игры в казаки-разбойники, а чаще — в войну. Причем никому не хотелось быть немцами, поэтому эту незавидную роль исполняли по очереди, чтобы никому не
было обидно. Когда же они решили устроить спектакль «Красная Шапочка», они обычно после обеда обсуждали и творили у нас на террасе. Мы с Лидией Яковлевной не мешали им и только помогали, отвечая на их сомнения и вопросы. Часто они бежали на горку, и Лидия Яковлевна старалась вникнуть в их дела на полном серьезе. В вопросе декораций она была главной помощницей, я — по костюмной части (реквизит создавался из всех подручных материалов, в основном покрашенных акварелью газет, много хлопот доставила маска Волка). Декорации были придуманы Лидией Яковлевной с удачным использованием деревьев на заднем плане и прибавкой больших веток. Сценическая площадка состояла из четырех высоких колышков, сверху соединенных веревкой. Когда было нужно, лес органически входил на сцену, когда же был домик бабушки, на веревку вешали холст, закрывавший «лес», лишние ветки убирались, ставилась лавка и маленькие скамеечки. Один Саша изображал Волка, а другой — Красную Шапочку, бабушку и, наконец, грозного дровосека. Лидия Яковлевна и я были костюмерами и рабочими сцены во время представления. Спектакль прошел с большим успехом у местных детей, было также несколько взрослых.
Три года летом мы жили с детьми в этой деревне. Лидия Яковлевна мужественно успевала все одна, творила, как всегда, с натуры и делала эскизы, пока варился обед. Лицо ее было сосредоточено, она полностью уходила в работу и думала о ней… Считается, что Цезарь мог одновременно делать три дела — диктовал приказы, читал, отдавал распоряжения… Лидия Яковлевна умела соединять несоединимое: хозяйство, воспитание детей с творчеством на высоком уровне, потому что душа ее творила всегда.
ПИСЬМА К И. ГИНЗБУРГ
14 сентября 1947, Москва
14 сентября 1947, Москва
(…) Вы меня зовете.
Но что толку, если я приеду к вам и вы увидите меня без моих работ? Конечно, ноги носят тело и это важно, но интереснее совсем другое. В живописи вы знаете меня девочкой с косичками, а я выросла в женщину. Разве похоже одно на другое? Короче, «Зою» я написала, но никому еще не показала. Видел только Женя. Он меня поцеловал и сказал: «Ты нам всем наложила». Ну, а как ее примут — не знаю. «Дурова» кажется этюдом по сравнению с «Зоей». «Зоя» гораздо плотнее и крепче, она как из бронзы отлита. По этой дороге — простой и убедительной — надо идти дальше.
Но что толку, если я приеду к вам и вы увидите меня без моих работ? Конечно, ноги носят тело и это важно, но интереснее совсем другое. В живописи вы знаете меня девочкой с косичками, а я выросла в женщину. Разве похоже одно на другое? Короче, «Зою» я написала, но никому еще не показала. Видел только Женя. Он меня поцеловал и сказал: «Ты нам всем наложила». Ну, а как ее примут — не знаю. «Дурова» кажется этюдом по сравнению с «Зоей». «Зоя» гораздо плотнее и крепче, она как из бронзы отлита. По этой дороге — простой и убедительной — надо идти дальше.
1 октября 1947, Москва
(…) «Зою» приняли с поздравлениями (…) В Русском музее и «Стелла»
и «Катюша». Туда бы и «Зою» следовало.
Особенно всем нравится головка и ее образ, а это ведь и суть. Психологический портрет.
Чуйков говорит: «Я как вспоминаю ее, так плакать хочется».
Сейчас мне хочется делать акварели и уйти работать в книгу.
(…) Я научилась писать картины. Раньше я могла испортить вещь, как
на лыжах — носами в снег. Сейчас зарыться и опрокинуть меня мои лыжи не могут. У Зои лицо, писанное полтора года, свежо так, как мои старые этюды, писанные в один сеанс. Я преодолела «замученность» в процессе работы настолько, что этот вопрос меня совсем не заботит.
и «Катюша». Туда бы и «Зою» следовало.
Особенно всем нравится головка и ее образ, а это ведь и суть. Психологический портрет.
Чуйков говорит: «Я как вспоминаю ее, так плакать хочется».
Сейчас мне хочется делать акварели и уйти работать в книгу.
(…) Я научилась писать картины. Раньше я могла испортить вещь, как
на лыжах — носами в снег. Сейчас зарыться и опрокинуть меня мои лыжи не могут. У Зои лицо, писанное полтора года, свежо так, как мои старые этюды, писанные в один сеанс. Я преодолела «замученность» в процессе работы настолько, что этот вопрос меня совсем не заботит.
16 декабря 1947, Москва
Беллочка!
Я очень хорошо понимаю вас, когда вы пишете, что дела ваши неясны
и смутны. Мои дела — дела, а не мысли и чувства — тоже неясны и смутны. Кроме того, «успех», которого мне, конечно, хотелось бы, потому что он смог бы мне дать право на мастерскую, без которой я просто исхожу кровью, — отодвинулся невероятно далеко, за горизонт, где ничего не видно. Причина во мне. Я отодвинула «Кирова» и решила писать простых, сегодняшних людей в их труде и их любви. «Обыденное» меня неудержимо влечет. В нем я вижу всю «соль» земли и всю красоту.
Но что поделаешь? Судите сами, какой же может быть успех с такой тематикой? И писать хочется просто и ясно, как в жизни. То ли я устала
от пафоса, то ли полюбила маленьких, безымянных героев — не знаю. Что-то перевернулось во мне после войны. И краски мои довоенные, слащавые и яркие, мне противны. Я совсем изменила гамму, и палитра моя состоит только из 12 красок.
(…) Не знаю, будут ли принимать мои вещи на выставки, но я решила посвятить себя именно им. Ну, а когда знаешь, что тебе предстоит тяжелая дорога, то особенно скакать и радоваться не будешь. На душе хорошо и трудно. К тому же неспокойно, потому что писать-то я не умею. Здесь нужен спокойный, ясный и сильный язык, вот как у Чехова. Трудно мне, Беллочка, будет.
(…) Вы знаете, как тяжело мне было писать «Зою»? Ведь я должна была
каждый день в работе переживать ее историю и писать ее, по существу, без натуры. (…) А теперь снова открытый в будущее мир, пластика, цвет
и радость. Каждый день сейчас пишу этюды из окна (пейзажи). Тоже радость — писать этюды. Так давно этого не делала.
Короче говоря — получила свободу. «Дурова» и «Зоя» посвящены войне. Скромная дань, и, оказалось, никому не нужная.
Да, Беллочка, я в восторге от книги В. Некрасова «В окопах Сталинграда». Это лучшее, что о войне написано, и вообще так замечательно современно, реально и по-русски. Нравится ли вам?
Я завидую Жене, что он едет в Ленинград и будет у вас, но я связана домом, детьми и хозяйством! Этот хомут всегда на мне. Но плечи мои к нему, как будто, уже привыкли (…)
P. S. Беллочка! А ведь правда: Зоя — это все те же мои выросшие девочки? Только они очень много увидели и пережили, и собрались? Ах, как хочется писать тех, которые остались жить! Как они живут, какие стали — напишу.
Я очень хорошо понимаю вас, когда вы пишете, что дела ваши неясны
и смутны. Мои дела — дела, а не мысли и чувства — тоже неясны и смутны. Кроме того, «успех», которого мне, конечно, хотелось бы, потому что он смог бы мне дать право на мастерскую, без которой я просто исхожу кровью, — отодвинулся невероятно далеко, за горизонт, где ничего не видно. Причина во мне. Я отодвинула «Кирова» и решила писать простых, сегодняшних людей в их труде и их любви. «Обыденное» меня неудержимо влечет. В нем я вижу всю «соль» земли и всю красоту.
Но что поделаешь? Судите сами, какой же может быть успех с такой тематикой? И писать хочется просто и ясно, как в жизни. То ли я устала
от пафоса, то ли полюбила маленьких, безымянных героев — не знаю. Что-то перевернулось во мне после войны. И краски мои довоенные, слащавые и яркие, мне противны. Я совсем изменила гамму, и палитра моя состоит только из 12 красок.
(…) Не знаю, будут ли принимать мои вещи на выставки, но я решила посвятить себя именно им. Ну, а когда знаешь, что тебе предстоит тяжелая дорога, то особенно скакать и радоваться не будешь. На душе хорошо и трудно. К тому же неспокойно, потому что писать-то я не умею. Здесь нужен спокойный, ясный и сильный язык, вот как у Чехова. Трудно мне, Беллочка, будет.
(…) Вы знаете, как тяжело мне было писать «Зою»? Ведь я должна была
каждый день в работе переживать ее историю и писать ее, по существу, без натуры. (…) А теперь снова открытый в будущее мир, пластика, цвет
и радость. Каждый день сейчас пишу этюды из окна (пейзажи). Тоже радость — писать этюды. Так давно этого не делала.
Короче говоря — получила свободу. «Дурова» и «Зоя» посвящены войне. Скромная дань, и, оказалось, никому не нужная.
Да, Беллочка, я в восторге от книги В. Некрасова «В окопах Сталинграда». Это лучшее, что о войне написано, и вообще так замечательно современно, реально и по-русски. Нравится ли вам?
Я завидую Жене, что он едет в Ленинград и будет у вас, но я связана домом, детьми и хозяйством! Этот хомут всегда на мне. Но плечи мои к нему, как будто, уже привыкли (…)
P. S. Беллочка! А ведь правда: Зоя — это все те же мои выросшие девочки? Только они очень много увидели и пережили, и собрались? Ах, как хочется писать тех, которые остались жить! Как они живут, какие стали — напишу.
2 апреля 1948, Москва
(…) 30-го мы с Женей вернулись из Абрамцева. Аксаковский дом, такой благородный по формам, очень напоминал мне сказку о лошадином черепе и его обитателях. Мало кто может представить себе блеск круглого лошадиного глаза, трепет ноздрей, нервные тонкие уши, увидев под ногами забытый, выщербленный временем череп. То же и с Абрамцевом. На террасе колют дрова, внутри общежитие для рабочих. На врубелевском камине тоже кололи дрова и поломали его. Поломанные полы, грязь, запустение, у одной из каменных баб отломлена голова. Мне было очень грустно, и непонятно, почему многие художники без конца пишут этюды с этих руин.
Я не хочу писать череп, живая голова — это совсем другое дело. Вот почему я ничего не писала вам об Абрамцеве. И даже пейзажи — и то для меня омрачены какой-то мертвечиной. Как всегда, только живое и новое тянет меня к себе. А многие художники построили там себе дачи. Они обрекли себя жить возле кладбища и поневоле писать то, что до них так хорошо написали.
(…) На лето мне никуда не хочется ехать. Не знаю только, как быть с ребятами? Коле 15 лет, Саньке — 9. Все еще они малы. Ращу, ращу… Они на меня не похожи. И за меня ничего не сделают. Тем сильнее хочется успеть самой сказать пояснее. И они чертовски мешают. Но я их люблю и потому терплю совершенно бескорыстно.
Я не хочу писать череп, живая голова — это совсем другое дело. Вот почему я ничего не писала вам об Абрамцеве. И даже пейзажи — и то для меня омрачены какой-то мертвечиной. Как всегда, только живое и новое тянет меня к себе. А многие художники построили там себе дачи. Они обрекли себя жить возле кладбища и поневоле писать то, что до них так хорошо написали.
(…) На лето мне никуда не хочется ехать. Не знаю только, как быть с ребятами? Коле 15 лет, Саньке — 9. Все еще они малы. Ращу, ращу… Они на меня не похожи. И за меня ничего не сделают. Тем сильнее хочется успеть самой сказать пояснее. И они чертовски мешают. Но я их люблю и потому терплю совершенно бескорыстно.

А.Е. Кибрик
сын Лидии Тимошенко
Дни печального запустения Абрамцева, к счастью, были на исходе. Вскоре начались реставрационные работы, и этому замечательному месту была дана вторая жизнь. Упоминаемые врубелевские печи в доме были восстановлены, а хранившаяся под открытым небом знаменитая скамья Врубеля была буквально собрана из осколков знатоком врубелевской керамики и реставратором В. Невским, впоследствии моим другом и почитателем творчества Л. Тимошенко.
“
ИЗ ПИСЬМА И. ГИНЗБУРГ К Л. ТИМОШЕНКО
27 октября 1948, Ленинград
Лидочка, родная, вы не написали, боюсь, уж не расхворались ли вы всерьез (…) И хотя Москва мне по-прежнему несносна, мне даже воздух там невыносим, все же я рада, что съездила. Повидала Третьяковку, маму и вас. (…) И что-то стало на место там, где ныло и мешало. Я очень, очень рада тому, что я увидела у вас (речь идет о ваших работах). Передумывая и вспоминая их снова, я все больше убеждаюсь, что
не ошибалась. Я не знаю Яблонской, возможно, что она действительно даровита, но я уверена, что среди русских художниц у вас настоящих соперниц нет. И вы выросли на целую голову; за тем, что вы урываете у вашего быта и вашей женской бесхарактерности, также еще в сущности непочатый источник творчества. Лида, это будет большим, непростительным грехом, если вы дадите его зарыть в землю. Вы можете воспеть сегодняшних советских героев так искренно, так правдиво, что вы не имеете права, не имеете уже и времени ждать у моря погоды. Если вы не добьетесь возможности писать в запертой на ключ комнате, пишите, как писали «Зою», но пишите (…) Жизнь у вас одна, и она, ваша жизнь, заключается не в одном муже и детях. Не обладай вы настоящим даром, Бог с вами, кормите их обедом, все было бы в порядке (…)
Если бы я увидела сейчас те же работы, что раньше, те же обещания, хотя и очень привлекательные, я не позволила бы себе «учить вас жить». Но я вижу ясно, что вы можете, что вы уже умеете, и, представляя себе, что вы смогли бы сделать, я прихожу просто в ярость. Я люблю вас, и вашу красоту, и вашу женственность, но, Лидочка, таких много. А вашего дара, именно такого, как у вас, я не знаю другого. Я не хочу, чтобы он был потерян (…)
27 октября 1948, Ленинград
Лидочка, родная, вы не написали, боюсь, уж не расхворались ли вы всерьез (…) И хотя Москва мне по-прежнему несносна, мне даже воздух там невыносим, все же я рада, что съездила. Повидала Третьяковку, маму и вас. (…) И что-то стало на место там, где ныло и мешало. Я очень, очень рада тому, что я увидела у вас (речь идет о ваших работах). Передумывая и вспоминая их снова, я все больше убеждаюсь, что
не ошибалась. Я не знаю Яблонской, возможно, что она действительно даровита, но я уверена, что среди русских художниц у вас настоящих соперниц нет. И вы выросли на целую голову; за тем, что вы урываете у вашего быта и вашей женской бесхарактерности, также еще в сущности непочатый источник творчества. Лида, это будет большим, непростительным грехом, если вы дадите его зарыть в землю. Вы можете воспеть сегодняшних советских героев так искренно, так правдиво, что вы не имеете права, не имеете уже и времени ждать у моря погоды. Если вы не добьетесь возможности писать в запертой на ключ комнате, пишите, как писали «Зою», но пишите (…) Жизнь у вас одна, и она, ваша жизнь, заключается не в одном муже и детях. Не обладай вы настоящим даром, Бог с вами, кормите их обедом, все было бы в порядке (…)
Если бы я увидела сейчас те же работы, что раньше, те же обещания, хотя и очень привлекательные, я не позволила бы себе «учить вас жить». Но я вижу ясно, что вы можете, что вы уже умеете, и, представляя себе, что вы смогли бы сделать, я прихожу просто в ярость. Я люблю вас, и вашу красоту, и вашу женственность, но, Лидочка, таких много. А вашего дара, именно такого, как у вас, я не знаю другого. Я не хочу, чтобы он был потерян (…)
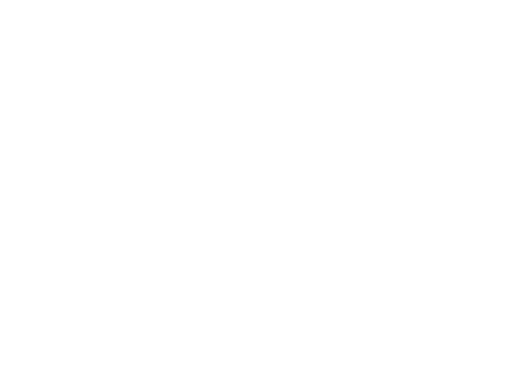
Лидия Тимошенко и Изабелла Гинзбург. Начало 1950-х
ПИСЬМА К И. ГИНЗБУРГ
18 ноября 1948, Москва
18 ноября 1948, Москва
Беллочка!
Ну вот: начала ходить в ремесленное. Начинаю очень вяло и с трудом.
Знаете, как старая лошадь, которую выводят из конюшни, и она, вытянув морду, еле волочит ноги. Ощущение полного банкротства вследствие длительного отрыва от жизни. Все, буквально все надо наживать заново.
Это совсем не так просто — нажить творческий капитал. Мало спокойных холодных наблюдений, вроде летних моих картин, которые я показывала. Здесь прежде всего нужно пристрастие, живость, горячность и любовь. Иначе эту тему не поднять и не подать. Фрезеровщики и токари по металлу. Тема заводская вполне. Они стоят и работают. Все равно как в пасмурный день, когда проглядывают косые лучи солнца и вы видите преображенную, богатую, зовущую природу. То же и здесь. Всплески игры жизни мелькают. Нужно чертовское напряжение, чтоб их словить, и еще больше — чтоб их выразить. Не говоря уже о том, что и времени уйдет много на «вживание». «Зоя» и «Дурова» созданы из головы, а сейчас я снова вернулась к реальной жизни. Ремесленник Алеши Пахомова как раз без
солнца — то пасмурный день. Мне надо иное. Мне надо, чтоб это было
так же заманчиво, и даже больше, чем сделанное мною на пионерские темы. А сделать это можно, только перемахнув через натурализм, то есть лишь поймав все по кускам и умело собрав их в целое, работая и рукой — там, и головой и сердцем — дома, и снова всем вместе — там. Короче говоря, я выхожу из конюшни с мыслями старой лошади, которая не спешит, потому что знает, что ей придется пахать длинный-длинный день, до захода и после.
Так-то.
(…) В жизни надо обязательно высматривать и собирать. Надо «решать» жизнь, а не следовать за ней …
Ну вот: начала ходить в ремесленное. Начинаю очень вяло и с трудом.
Знаете, как старая лошадь, которую выводят из конюшни, и она, вытянув морду, еле волочит ноги. Ощущение полного банкротства вследствие длительного отрыва от жизни. Все, буквально все надо наживать заново.
Это совсем не так просто — нажить творческий капитал. Мало спокойных холодных наблюдений, вроде летних моих картин, которые я показывала. Здесь прежде всего нужно пристрастие, живость, горячность и любовь. Иначе эту тему не поднять и не подать. Фрезеровщики и токари по металлу. Тема заводская вполне. Они стоят и работают. Все равно как в пасмурный день, когда проглядывают косые лучи солнца и вы видите преображенную, богатую, зовущую природу. То же и здесь. Всплески игры жизни мелькают. Нужно чертовское напряжение, чтоб их словить, и еще больше — чтоб их выразить. Не говоря уже о том, что и времени уйдет много на «вживание». «Зоя» и «Дурова» созданы из головы, а сейчас я снова вернулась к реальной жизни. Ремесленник Алеши Пахомова как раз без
солнца — то пасмурный день. Мне надо иное. Мне надо, чтоб это было
так же заманчиво, и даже больше, чем сделанное мною на пионерские темы. А сделать это можно, только перемахнув через натурализм, то есть лишь поймав все по кускам и умело собрав их в целое, работая и рукой — там, и головой и сердцем — дома, и снова всем вместе — там. Короче говоря, я выхожу из конюшни с мыслями старой лошади, которая не спешит, потому что знает, что ей придется пахать длинный-длинный день, до захода и после.
Так-то.
(…) В жизни надо обязательно высматривать и собирать. Надо «решать» жизнь, а не следовать за ней …
22 ноября 1948, Москва
Ну вот теперь я каждый день хожу в ремесленное: рисую и пишу, как когда. Ключа у меня еще нет. Я, как Шерлок Холмс, собираю признаки и сравниваю их. Пожалуй, это самый трудный этап работы.
Современность трудна тем, что по ней нет проторенных тропинок и нет
давно готовых ключей. Что толку писать то, что видишь? Правда не плавает на поверхности (…) Секрет в том, что мы внутри другие. А сверху — ничего особенного. Это я в портрете Тани на балконе хотела выразить.
(…) Вы, наверное, видели «Зою»? Она вам не понравилась? Наверное, нет. Все же пишите откровенно.
Я сама считаю неудачным все, кроме головы, но училась я тогда здорово видеть все не сверху и не от красивого. Впрочем, все будет ни к чему, если мне не удастся все это суммировать в дальнейшем.
(…) Я свободнее многих, потому что ко мне трудно что-либо привить помимо того, что я люблю, а я люблю жить, люблю жизнь.
Современность трудна тем, что по ней нет проторенных тропинок и нет
давно готовых ключей. Что толку писать то, что видишь? Правда не плавает на поверхности (…) Секрет в том, что мы внутри другие. А сверху — ничего особенного. Это я в портрете Тани на балконе хотела выразить.
(…) Вы, наверное, видели «Зою»? Она вам не понравилась? Наверное, нет. Все же пишите откровенно.
Я сама считаю неудачным все, кроме головы, но училась я тогда здорово видеть все не сверху и не от красивого. Впрочем, все будет ни к чему, если мне не удастся все это суммировать в дальнейшем.
(…) Я свободнее многих, потому что ко мне трудно что-либо привить помимо того, что я люблю, а я люблю жить, люблю жизнь.
27 ноября 1948, Москва
(…) Я — так себе и в какой-то мгле. Все ищу ключа к трудовым резервам. Думала очень много, а потом на неделю бросила. Теперь снова принялась. Трудно. Срисовывать, что видно сверху, смысла нет. Не знаю, успею ли к этой выставке, на редкость туго идет дело. Поразительно, что чем дальше, тем труднее мне становится писать.
Эль Греко писал с восковых фигурок, и так как одежды (материя не соответствовала размеру) не были уменьшены во столько же раз, то получались фигурки в двух-трех крупных лепестках, то есть — искаженная реальность пленяла. Попросту — ложь. Я хочу правды, но только не всякой и всяческой, а главной. Разобраться в этом потоке движения жизни чертовски трудно. Гораздо легче слепить восковую фигурку. Или действовать на основе чужих достижений. Я, наверное, вам пишу все одно и то же, потому что об одном и том же думаю.
Эль Греко писал с восковых фигурок, и так как одежды (материя не соответствовала размеру) не были уменьшены во столько же раз, то получались фигурки в двух-трех крупных лепестках, то есть — искаженная реальность пленяла. Попросту — ложь. Я хочу правды, но только не всякой и всяческой, а главной. Разобраться в этом потоке движения жизни чертовски трудно. Гораздо легче слепить восковую фигурку. Или действовать на основе чужих достижений. Я, наверное, вам пишу все одно и то же, потому что об одном и том же думаю.
3 декабря 1948, Москва
Бросила недописанное письмо, так оно и пролежало.
Брожу по своим любимым улочкам. Хожу в ремесленное и лежу иногда на диване с книжкой. В сущности, это счастливая жизнь. Там видно будет — вырастет ли из этого что-либо красивое, но старая эстетика не годится. С нею на заводах нечего делать.
Как вы относитесь к тому, что разгромили Сарьяна?
Все же в русском характере действовать самостоятельно. Проживем и без Матисса. Мне все они надоели.
Беллочка! Хорошо ли вам? Я хотела бы сегодня посидеть с вами тихо и даже не говорить. Просто так — уютно и тихо. Послушать, как жизнь идет (…)
Брожу по своим любимым улочкам. Хожу в ремесленное и лежу иногда на диване с книжкой. В сущности, это счастливая жизнь. Там видно будет — вырастет ли из этого что-либо красивое, но старая эстетика не годится. С нею на заводах нечего делать.
Как вы относитесь к тому, что разгромили Сарьяна?
Все же в русском характере действовать самостоятельно. Проживем и без Матисса. Мне все они надоели.
Беллочка! Хорошо ли вам? Я хотела бы сегодня посидеть с вами тихо и даже не говорить. Просто так — уютно и тихо. Послушать, как жизнь идет (…)
19 января 1949, Москва
Странная фантазия — писать письмо, когда находишься в бешенстве.
И все же я буду писать, потому что это единственная, единственная узенькая щелка. Больше нигде нет света. Все заплыло в болоте семейных обязанностей и такой суеты, от которой я все свое забыла. 10 лет я не работаю. Последние два года не могу даже думать, потому что среди шума, приготовления уроков вслух, приготовления пищи, поисков вещей, хождения на пятачке, беспрестанной борьбы в мелочах, ужасающих, нищенских мелочах, которые не снились даже Рембрандту в его убежище для нищих, лучшее — это отупеть, превратиться в животное. Когда на мгновение возникает случайная тишина — звенит в ушах. Так это не привычно.
Сегодня мне снилось, будто я в душегубке плыву навстречу громадным волнам, но вместо страха в душе восторг и абсолютная уверенность. Работать бросила. Все последнее время занята поисками комнаты. Без комнаты работать — это шить тришкин кафтан. Должна вам сказать, моя родная, что во мне опять какой-то переворот. И открылись новые ступеньки к мудрости, более широкой и общечеловеческой, по которым я должна взойти. Для этого нужна комната. И больше ничего. За эти 10 лет жизнь выколотила из меня все тщеславие и честолюбие до конца и навсегда. Перед обезьянками франтить нет смысла, а настоящим людям оно неинтересно. То же, что интересно, стоит вне значков и украшений.
Мне хочется оборвать письмо не дописывая, потому что дальше идут мои мечты, о которых я боюсь говорить.
Старуха-жизнь чертовски вероломна и любит доказывать человеку его
ничтожество. «Ты хочешь сделать, но это невозможно. И если я даже не
смогу помешать внутри тебя, если я не смогу сломать твою волю, то извне я тебе подставлю такую подножку, от которой ты покатишься далеко вниз, не успев ахнуть".
И все же, все же, Белла, сделать невозможное возможным — это и есть
смысл человечества. Все же человек — дерзкий бог, а не жалкая обезьяна. (…)
И все же я буду писать, потому что это единственная, единственная узенькая щелка. Больше нигде нет света. Все заплыло в болоте семейных обязанностей и такой суеты, от которой я все свое забыла. 10 лет я не работаю. Последние два года не могу даже думать, потому что среди шума, приготовления уроков вслух, приготовления пищи, поисков вещей, хождения на пятачке, беспрестанной борьбы в мелочах, ужасающих, нищенских мелочах, которые не снились даже Рембрандту в его убежище для нищих, лучшее — это отупеть, превратиться в животное. Когда на мгновение возникает случайная тишина — звенит в ушах. Так это не привычно.
Сегодня мне снилось, будто я в душегубке плыву навстречу громадным волнам, но вместо страха в душе восторг и абсолютная уверенность. Работать бросила. Все последнее время занята поисками комнаты. Без комнаты работать — это шить тришкин кафтан. Должна вам сказать, моя родная, что во мне опять какой-то переворот. И открылись новые ступеньки к мудрости, более широкой и общечеловеческой, по которым я должна взойти. Для этого нужна комната. И больше ничего. За эти 10 лет жизнь выколотила из меня все тщеславие и честолюбие до конца и навсегда. Перед обезьянками франтить нет смысла, а настоящим людям оно неинтересно. То же, что интересно, стоит вне значков и украшений.
Мне хочется оборвать письмо не дописывая, потому что дальше идут мои мечты, о которых я боюсь говорить.
Старуха-жизнь чертовски вероломна и любит доказывать человеку его
ничтожество. «Ты хочешь сделать, но это невозможно. И если я даже не
смогу помешать внутри тебя, если я не смогу сломать твою волю, то извне я тебе подставлю такую подножку, от которой ты покатишься далеко вниз, не успев ахнуть".
И все же, все же, Белла, сделать невозможное возможным — это и есть
смысл человечества. Все же человек — дерзкий бог, а не жалкая обезьяна. (…)
13 февраля 1949, Москва
Сколько я больна? Не помню. Давно лежу. Когда встану — не знаю. Но хочется как можно скорей. Сколько я передумала, пока лежу! (…) И чем больше старалась проникнуть в равнодушие жизни и природы, тем дороже становилась человечность, то есть пристрастие в людях. Эх! Как красива же эта человечность, как лучи солнца, упавшие на землю. Вот моя основная тема.
Всякое есть: и логические построения, и строгая действительность, законы, законы, и равнодушные, путающиеся среди всего взгляды, вырывающие случайное, иногда важное, иногда совсем не важное, но меня интересует только этот упавший на землю луч — человечность, согревающая космический холод.
Конкретно: я хочу переехать, закрыть за собою дверь и работать. Темы
две.
У токарного станка две девочки заправляют модель, третья только вошла, веселая, бросила на станок букет цветов и снимает платок (весна).
Вторая тема: Пушкин с няней в ссылке. Пушкин сидит за столиком у окна, пишет, кругом на полу бумажки, он облокотился и задумался, сумерки, обмерзшее окошко. Няня вносит свечку, тут же ее кресло. Скамейка? и вязание? (Это продолжение Дуровой.) По этой теме, Беллочка, я хотела бы иметь хорошие репродукции с портретов (всех), нельзя ли достать в Русском музее? И вообще, всем, чем вы можете помочь, — помогите. В смысле бытовых подробностей и т. д.
Месяца три-четыре я ежедневно ходила в ремесленное — ловила главное. Только я его поймала — и заболела. А главное не в машинах, а в человеке — живом, непосредственном и живущем среди машин. Отсюда — цветы.
Всякое есть: и логические построения, и строгая действительность, законы, законы, и равнодушные, путающиеся среди всего взгляды, вырывающие случайное, иногда важное, иногда совсем не важное, но меня интересует только этот упавший на землю луч — человечность, согревающая космический холод.
Конкретно: я хочу переехать, закрыть за собою дверь и работать. Темы
две.
У токарного станка две девочки заправляют модель, третья только вошла, веселая, бросила на станок букет цветов и снимает платок (весна).
Вторая тема: Пушкин с няней в ссылке. Пушкин сидит за столиком у окна, пишет, кругом на полу бумажки, он облокотился и задумался, сумерки, обмерзшее окошко. Няня вносит свечку, тут же ее кресло. Скамейка? и вязание? (Это продолжение Дуровой.) По этой теме, Беллочка, я хотела бы иметь хорошие репродукции с портретов (всех), нельзя ли достать в Русском музее? И вообще, всем, чем вы можете помочь, — помогите. В смысле бытовых подробностей и т. д.
Месяца три-четыре я ежедневно ходила в ремесленное — ловила главное. Только я его поймала — и заболела. А главное не в машинах, а в человеке — живом, непосредственном и живущем среди машин. Отсюда — цветы.

А.Е. Кибрик
сын Лидии Тимошенко
Конечно, не все планы художника осуществляются. По письмам видно, как много работы и мыслей вложила Л. Тимошенко в тему ремесленников, но в итоге законченных работ не получилось. Удивительно то, как настойчиво шла она к Пушкину и что, несмотря на большие перерывы, дошла до него и воплотила свою мечту в реальность.
ПИСЬМА К И. ГИНЗБУРГ
27 мая 1949, Москва
27 мая 1949, Москва
(…) Дело не только в болезни; я берегу чистоту; как это ни смешно. Нужна ли она? (…) Мне чистота нужна для искусства. Может быть, еще и понадобится. Зато я небо вижу. Многие ли в мои годы не забыли о небе? А небо — камертон.
30 июля 1949, Москва
(…) Вы знаете, иногда во время работы с натуры я рассмеюсь на себя за то, что по привычке беру не тот цвет, который вижу, а который по моей схеме привыкла брать. Насколько богаче и глубже все, когда отдаешься изучению жизни, и как это увлекательно — учиться искренне. И как это трудно, куда труднее, чем жить по схемам.


