Часть 6
Последний период
1964-1976
“
Но теперь я знаю, что мое искусство не умрет и со временем займет свое место. Любовь не оказалась бесплодной…
“
Все, что так долго лежало похороненным, — воскреснет.
ПИСЬМА К М. ДУММЕР
3 января 1964, Москва
3 января 1964, Москва
Последние дни старого года работала в литографии, кое-что переделывала для «Онегина» и, конечно, свалилась. Пролежала с воспалением легких. Мне во что бы то ни стало надо кончать в типографии «Онегина», и тогда я хотя бы обрету независимость.
(…) Вертятся мысли вокруг вопроса «добра и зла». Как это перемешано и нужно ли человеку их разделять?
(…) Ах, Нюрочка, теперь о самом грустном: я снова лежу, а в сердце новая фаза: пульс стал очень слабым и редким, кружится голова. А случилось это внезапно: собиралась ехать в литографскую мастерскую, а вместо этого упала посреди комнаты, которая «пошла кругом».
(…) Вертятся мысли вокруг вопроса «добра и зла». Как это перемешано и нужно ли человеку их разделять?
(…) Ах, Нюрочка, теперь о самом грустном: я снова лежу, а в сердце новая фаза: пульс стал очень слабым и редким, кружится голова. А случилось это внезапно: собиралась ехать в литографскую мастерскую, а вместо этого упала посреди комнаты, которая «пошла кругом».
8 мая 1964, Москва
У меня два пути: 1) жить расточительно и умереть внезапно; 2) жить бережливо и умирать медленно от цирроза печени в результате декомпенсации сердца.
24 июня 1964, Москва
(…) Женя был прав, когда называл меня «королем Лиром». Всю юность после детства меня преследовало чувство, что я «не ко двору» по отношению к окружающему миру (…)
20 июля 1964, Москва
(…) Перебирая ночью жизнь, я выделяю счастье: 1) 13 лет детство, 2) 10 дней в Новгороде и 3) 2 года после Жениного ухода, вдвоем с Сашей. Все остальное компромиссы и лицемерие.
22 февраля 1964, Москва
(…) Что касается «Онегина», то договор заключен, должна сдавать. Но примут ли его таким, как я хочу? А если не примут, то с моим характером заберу и кину на полку, благо 15 иллюстраций его ездит с выставкой по всей Германии.
Август 1965, Москва
(…) Отвечаю на твои вопросы: «Онегина» будут печатать, поскольку я получила все деньги. Надеюсь, что войдет в план будущего года (…)
Мастерскую получила у Киевского вокзала, причем запросто, без конфликтов. Для работы она мала: всего 12 метров. По существу, там на стеллажах просто склад моих работ (…)
Сейчас мне жить интересно, и мой дом интересен очень умным и тонким людям.
Мастерскую получила у Киевского вокзала, причем запросто, без конфликтов. Для работы она мала: всего 12 метров. По существу, там на стеллажах просто склад моих работ (…)
Сейчас мне жить интересно, и мой дом интересен очень умным и тонким людям.
23 января 1966, Москва
(…) Я начала терять речь, то есть стала говорить медленно и невнятно. Врачи сказали мне, что это на нервной почве. Так оно и оказалось. Через несколько дней (…) в два часа ночи я упала возле окна без сознания и пролежала до половины пятого. Очнулась живая, замерзшая. Через несколько дней у мольберта, сильно перегнувшись, толкнула его вверх, и в спине что-то хрустнуло, осела на пол. Потом 5 снимков, и 5 хирургов решили, что у меня перелом 12-го позвонка. Уложили в больницу на доску, так и подвесили. Адские боли. Десять дней — год.
(…) Сейчас я дома. Говорят, перелома нет, но есть сильное повреждение неизвестного происхождения (…)
(…) Сейчас я дома. Говорят, перелома нет, но есть сильное повреждение неизвестного происхождения (…)
30 сентября 1966, Москва
«Онегин» печатается для Монреаля с правом продажи там. Здесь «Онегин» вряд ли будет продаваться, так как тираж всего 30 000 экз. (…)
“
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. КУРДОВА
1986, Ленинград
(…) В 1966 году мы встретились снова, теперь уже на Песочной набережной, куда переехала наша мастерская. Теперь за столом работали художники молодого поколения и оставшиеся живыми немногие старые друзья с поседевшими головами. Было много радостных воспоминаний, вопросов, и не было никакого отчуждения, нередко встречающегося в подобных случаях.
Лидия Яковлевна показала нам свою только что вышедшую в издательстве «Художественная литература» иллюстрированную ею книгу — роман в стихах «Евгений Онегин» Пушкина. Мне было очень интересно впервые видеть ее иллюстрации. Для меня это было неожиданностью. Я увидел не только зрелое мастерство художника, но и самостоятельное проникновение в пушкинскую поэзию. Встреча с классиком всегда сопряжена с великими трудностями. Это экзамен, на котором испытывается духовная сущность художника.
В дарственной надписи на подаренной мне книге она называет свою работу «плохой», но это совсем не так, напротив, рассматривая ее рисунки, я убеждался в достоинствах этих прекрасных иллюстраций.
Работа Лидии Яковлевны дорога мне еще и потому, что в ней я вижу, с одной стороны, традицию, усвоенное наследие художников «Мира искусства», и одновременно новаторское искусство современной эстетики нашего времени с задачами, которые ставили многие иллюстраторы нашего города.
1986, Ленинград
(…) В 1966 году мы встретились снова, теперь уже на Песочной набережной, куда переехала наша мастерская. Теперь за столом работали художники молодого поколения и оставшиеся живыми немногие старые друзья с поседевшими головами. Было много радостных воспоминаний, вопросов, и не было никакого отчуждения, нередко встречающегося в подобных случаях.
Лидия Яковлевна показала нам свою только что вышедшую в издательстве «Художественная литература» иллюстрированную ею книгу — роман в стихах «Евгений Онегин» Пушкина. Мне было очень интересно впервые видеть ее иллюстрации. Для меня это было неожиданностью. Я увидел не только зрелое мастерство художника, но и самостоятельное проникновение в пушкинскую поэзию. Встреча с классиком всегда сопряжена с великими трудностями. Это экзамен, на котором испытывается духовная сущность художника.
В дарственной надписи на подаренной мне книге она называет свою работу «плохой», но это совсем не так, напротив, рассматривая ее рисунки, я убеждался в достоинствах этих прекрасных иллюстраций.
Работа Лидии Яковлевны дорога мне еще и потому, что в ней я вижу, с одной стороны, традицию, усвоенное наследие художников «Мира искусства», и одновременно новаторское искусство современной эстетики нашего времени с задачами, которые ставили многие иллюстраторы нашего города.
ДНЕВНИК
Апрель 1967, Москва
Апрель 1967, Москва
Выставка Бориса Каплянского. Круговец. Я его знала с 1928 года. Хорошие работы, столько в них любви и труда. Искусство не умирает.
Из письма к М. Думмер
26 июня 1967, Москва
26 июня 1967, Москва

А.Е. Кибрик
сын Лидии Тимошенко
Скупы документальные записи Л. Тимошенко последних лет ее жизни. Возможно, именно эта часть ее архива особенно пострадала от пожара. Но и то, что сохранилось, показывает, что взволнованное восприятие жизни, постоянный эмоциональный накал были неотъемлемой чертой каждого прожитого ею дня.
Вышел второй вариант «Онегина» в Гослитиздате. Это издание тоже не давалось дешево. Хотя она мечтала о тиражировании своей работы через книгу, сама эта книга во многом ее не удовлетворила. Пришлось идти на мучительные для нее как автора компромиссы (она неоднократно в исступлении порывалась расторгнуть с издательством договор). Иллюстрации были задуманы для печати в обрез, без полей, и белый цвет бумаги был, по ее замыслу, художественно нагружен так же, как черный контур и цветная «подкладка». Но издательство ультимативно настаивало на традиционных полях («Это же Пушкин!»). Поэтому в ряд рисунков по краям приходилось вводить дополнительный контур, не входивший в замысел автора. Во-вторых, размеры книги были уменьшены против авторского замысла. Автолитографии исполнялись в том размере, который соответствовал будущей книге. Но особенно нестерпимым было для художницы произвольное цветовое решение «подкладок», связанное с удешевлением издания.
Трудно ответить на вопрос, что для художника лучше: поступиться идеей, но вывести свое детище «в люди» или остаться непреклонным, но без выхода работы в свет. Лично я потратил много красноречия для того, чтобы отговорить маму от скандала, хотя понимал, что художественный замысел искажен. Пока что истинно авторского издания как первого, так и второго варианта «Онегина» нет и не предполагается, но хочется верить, что когда-нибудь они будут. Не может такой большой труд, обращенный к самому широкому зрителю, остаться заточенным в папках и на стеллажах.
В 1967 году мама пишет большое (для нее) полотно, названное позднее «День творения». Может быть, это единственная в ее творчестве картина в том высоком значении слова, которое она имела в виду. И опять — вызывающе антиконъюнктурная тема, без какой-либо надежды, что эту работу увидят люди. Но в этой вечной для искусства теме сейчас, сегодня для нас глубокий философский смысл. Это и восторг перед идеей рождения человека, а значит, и каждого из нас — таково прочтение Д. Шмаринова.
Вышел второй вариант «Онегина» в Гослитиздате. Это издание тоже не давалось дешево. Хотя она мечтала о тиражировании своей работы через книгу, сама эта книга во многом ее не удовлетворила. Пришлось идти на мучительные для нее как автора компромиссы (она неоднократно в исступлении порывалась расторгнуть с издательством договор). Иллюстрации были задуманы для печати в обрез, без полей, и белый цвет бумаги был, по ее замыслу, художественно нагружен так же, как черный контур и цветная «подкладка». Но издательство ультимативно настаивало на традиционных полях («Это же Пушкин!»). Поэтому в ряд рисунков по краям приходилось вводить дополнительный контур, не входивший в замысел автора. Во-вторых, размеры книги были уменьшены против авторского замысла. Автолитографии исполнялись в том размере, который соответствовал будущей книге. Но особенно нестерпимым было для художницы произвольное цветовое решение «подкладок», связанное с удешевлением издания.
Трудно ответить на вопрос, что для художника лучше: поступиться идеей, но вывести свое детище «в люди» или остаться непреклонным, но без выхода работы в свет. Лично я потратил много красноречия для того, чтобы отговорить маму от скандала, хотя понимал, что художественный замысел искажен. Пока что истинно авторского издания как первого, так и второго варианта «Онегина» нет и не предполагается, но хочется верить, что когда-нибудь они будут. Не может такой большой труд, обращенный к самому широкому зрителю, остаться заточенным в папках и на стеллажах.
В 1967 году мама пишет большое (для нее) полотно, названное позднее «День творения». Может быть, это единственная в ее творчестве картина в том высоком значении слова, которое она имела в виду. И опять — вызывающе антиконъюнктурная тема, без какой-либо надежды, что эту работу увидят люди. Но в этой вечной для искусства теме сейчас, сегодня для нас глубокий философский смысл. Это и восторг перед идеей рождения человека, а значит, и каждого из нас — таково прочтение Д. Шмаринова.
“
Д.А. ШМАРИНОВ О КАРТИНЕ «ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ»
…первые люди на земле — юноша и девушка. Этим последним аккордом она завершила ту тему юности и радости жизни, которой она была предана всю свою творческую жизнь.
…первые люди на земле — юноша и девушка. Этим последним аккордом она завершила ту тему юности и радости жизни, которой она была предана всю свою творческую жизнь.

А.Е. Кибрик
сын Лидии Тимошенко
Это и взгляд глазами первых людей на будущую историю человечества, усеянную не райскими розами, а обильно политою его кровью (никакого эйфорического ликования нет в их позах, они сдержанно взволнованы и грустны), это и опасение за дальнейшую судьбу человечества, стоящего на краю пропасти, такого же не защищенного, как Адам и Ева («…испытание пропастью, у края которой встретились Двое» К. Котляревская).
Картина встретилась со зрителем лишь после смерти автора. Помню я одного посетителя ленинградской выставки, который приходил почти ежедневно и подолгу молча ее рассматривал. У этой картины есть о чем подумать.
В этом же цикле мама задумала еще одну работу — «Адам и Ева в раю». Этот холст был начат, композиционно решен и эскизно прописан. Адам и Ева сидят под яблоней в задумчивых позах (мысли их обращены в непростое будущее), в руках у Евы яблоко.
Этот холст переехал в мамину новую квартиру (в 1967 году она поселилась в двухкомнатной квартире в Девятинском переулке, радуясь виду на церковь и близости к земле — второй этаж вместо 16-го) и почти десять лет простоял на мольберте, загромождая полкомнаты. Но мама не соглашалась его убрать. Может быть, ей необходим был этот символ незавершенности ее дел на земле?
Картина встретилась со зрителем лишь после смерти автора. Помню я одного посетителя ленинградской выставки, который приходил почти ежедневно и подолгу молча ее рассматривал. У этой картины есть о чем подумать.
В этом же цикле мама задумала еще одну работу — «Адам и Ева в раю». Этот холст был начат, композиционно решен и эскизно прописан. Адам и Ева сидят под яблоней в задумчивых позах (мысли их обращены в непростое будущее), в руках у Евы яблоко.
Этот холст переехал в мамину новую квартиру (в 1967 году она поселилась в двухкомнатной квартире в Девятинском переулке, радуясь виду на церковь и близости к земле — второй этаж вместо 16-го) и почти десять лет простоял на мольберте, загромождая полкомнаты. Но мама не соглашалась его убрать. Может быть, ей необходим был этот символ незавершенности ее дел на земле?
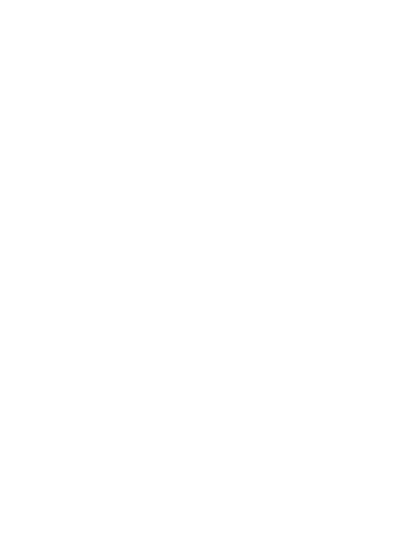
Лидия Тимошенко на балконе дома в Девятинском переулке. Начало 1970-х.
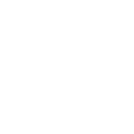
Нина Кибрик
художница, внучка Лидии Тимошенко
Ни самой картины «Адам и Ева в раю», ни ее фотографии не сохранилось. Осталось лишь мое воспоминание как она стояла у бабушки в комнатке от пола до потолка. Перед ней она рассказывала мне о сотворении мира… Более того — холст загадочно исчез! Я помню ее в рулоне у нас на антресолях. А когда я пошла на нее посмотреть, ее не оказалось нигде… И спросить уже не у кого. У нас был пожар в квартире с эпицентром там, где она лежала. Но сгореть она не могла. Может ее увезли на дачу, на чердак, а там она сгорела во втором пожаре? Но странно, что о ней не говорилось ни слова! Обо всем говорилось. А картина исчезла…

А.Е. Кибрик
сын Лидии Тимошенко
Последнее десятилетие своей жизни Л. Тимошенко посвятила решению совершенно новой для нее (да и вообще в искусстве) темы — воплощению в технике цветной литографии шедевра древнерусской живописи — «Троицы» Андрея Рублева. (В этом начинании ее очень поддерживала и воодушевляла зав. отделом древнерусской живописи Третьяковской галереи Валентина Ивановна Антонова.)
Первоначально мама хотела сделать копию иконы средствами цветной литографии в 12 цветов. При этом она столкнулась с огромными техническими и творческими сложностями. Во-первых, она ряд лет безуспешно добивалась для своего эксперимента камней большого размера. Трудноразрешимой затеей была также проблема золота. Но еще более сложным был вопрос о дефектах (многочисленные трещины, утраты красочного слоя, золота и т. п.) — досконально ли их копировать или восстанавливать их первоначальное состояние. Решив пойти по второму пути, художница обнаружила, что он отнюдь не однозначен: дело не только и не столько в явных механических повреждениях, а в более глубоких «превращениях» этого гениального художественного произведения. Возникла идея его «реконструкции».
Первоначально мама хотела сделать копию иконы средствами цветной литографии в 12 цветов. При этом она столкнулась с огромными техническими и творческими сложностями. Во-первых, она ряд лет безуспешно добивалась для своего эксперимента камней большого размера. Трудноразрешимой затеей была также проблема золота. Но еще более сложным был вопрос о дефектах (многочисленные трещины, утраты красочного слоя, золота и т. п.) — досконально ли их копировать или восстанавливать их первоначальное состояние. Решив пойти по второму пути, художница обнаружила, что он отнюдь не однозначен: дело не только и не столько в явных механических повреждениях, а в более глубоких «превращениях» этого гениального художественного произведения. Возникла идея его «реконструкции».
“
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Д.А. ШМАРИНОВА
В последние годы своей жизни Лидия Яковлевна очень увлекалась древнерусским искусством. Она стала большим знатоком этого искусства: не только древнерусской иконы, но и монументальной росписи. Мы много с ней на эту тему говорили. Должен сказать, что существуют художники-стилизаторы, которые легко переносят механические приемы старого искусства в свое творчество. А что касается Лидии Яковлевны, то в последнем периоде ее творчества, когда она пришла к монументальному силуэтному мышлению, возможно, сказалось очень опосредованное, очень внутренне пережитое влияние древнерусской живописи. Возможно. Но не прямо, а именно творчески пересмотренное и опосредованное.
Она работала в литографии над реконструкцией, как она говорила, рублевской «Троицы». «Троицу» много раз записывали, потом ее раскрывали, и если внимательно изучить «Троицу», то увидим, что «Троица» вся состоит из остатков то одного слоя, то другого слоя, замечательно реставраторами сохраненных так, что, несмотря на это, «Троица», этот рублевский шедевр, остается цельной. Художнице захотелось вернуть «Троице» тот первоначальный вид, который ей мерещился за всеми этими мерцающими кусками, в технике литографии. Лидия Яковлевна начала работать, делая вариант за вариантом. Так и осталась эта работа незаконченной" (варианты 1, 2 и 3].
В последние годы своей жизни Лидия Яковлевна очень увлекалась древнерусским искусством. Она стала большим знатоком этого искусства: не только древнерусской иконы, но и монументальной росписи. Мы много с ней на эту тему говорили. Должен сказать, что существуют художники-стилизаторы, которые легко переносят механические приемы старого искусства в свое творчество. А что касается Лидии Яковлевны, то в последнем периоде ее творчества, когда она пришла к монументальному силуэтному мышлению, возможно, сказалось очень опосредованное, очень внутренне пережитое влияние древнерусской живописи. Возможно. Но не прямо, а именно творчески пересмотренное и опосредованное.
Она работала в литографии над реконструкцией, как она говорила, рублевской «Троицы». «Троицу» много раз записывали, потом ее раскрывали, и если внимательно изучить «Троицу», то увидим, что «Троица» вся состоит из остатков то одного слоя, то другого слоя, замечательно реставраторами сохраненных так, что, несмотря на это, «Троица», этот рублевский шедевр, остается цельной. Художнице захотелось вернуть «Троице» тот первоначальный вид, который ей мерещился за всеми этими мерцающими кусками, в технике литографии. Лидия Яковлевна начала работать, делая вариант за вариантом. Так и осталась эта работа незаконченной" (варианты 1, 2 и 3].
ДНЕВНИК
27 января 1968, Москва
27 января 1968, Москва
Сердце, и еще болит нога (…) Неужели еще что-нибудь смогу сделать в искусстве? Неужто такой обломок что-то еще может сделать? Все дело, конечно, только в теле. «Познание добра и зла». Какое оно? Любовь и смерть. Как это сделать?
7 марта 1968, Москва
Несколько дней — очарование одиночества. Когда нет никого — это совсем другое. Отменяется весь быт, и сосредоточиваешься целиком на искусстве.
11 марта 1968, Москва
Если ты любишь искусство за деньги и свободу, которое оно дает, ты теряешь искусство. Оно исчезает. И уже больше никогда не сможет вернуться.
23 марта 1968, Москва
Россию никогда и никто не мог завоевать совсем. Она загадочная страна, с загадочной русской душой, всегда постоянной; обнаженная, раскрытая всем и все равно непонятная другим нациям. Ее не могут уничтожить ни потоки крови, ни хула, ни ненависть к ней. Страна, без которой мир не может обойтись, потому что все остальное слишком материально и слабо духовно, — соль земли, неподвижная как Бог. Хорошо быть русской.
2 мая 1968, Москва
И даже дождь вносит тихость и отдых. Сижу тихонько над «Троицей», а по ночам читаю Ключевского. Прошлое — будущее. Если бы мы могли понять прошлое, мы создали бы проекцию будущего. Но настоящее нас сбивает с ног, и мы живем только им.
23 мая 1968, Москва
Идеи носятся в воздухе и рождаются одновременно. Тема Адама и Евы у всех на умах, но если Жан Эффель делает карикатуры, я — противоположна. Так было всегда.
Письмо к М. Думмер
12 октября 1968, Москва
12 октября 1968, Москва
Я все вожусь с «Троицей». Она всех интересует, но тем больше будет борьбы и ругани.
(…) Ежедневно читаю Ключевского, который меня притягивает атмосферой древней Руси и монастырских ароматов.
(…) Ежедневно читаю Ключевского, который меня притягивает атмосферой древней Руси и монастырских ароматов.

Лидия Тимошенко работает над «Троицей»
Отдельная запись
6 июня 1969, Москва
6 июня 1969, Москва
«Троица ветхозаветная» А. Рублева
Несколько лет тому назад заведующая отделом древнерусского искусства Третьяковской галереи Валентина Ивановна Антонова предложила мне сделать цветную автолитографию «Троицы» А. Рублева, мотивировав просьбу сильным искажением цвета при репродуцировании. Казалось, согласиться на это — значило отбросить свои темы, свою жизнь в XX веке и накопленный ремесленный опыт на неопределенное время, отдать <их> в репродукционный отдел.
Конец XIV — начало XV и XX век. Мост, перекинутый А. Рублевым в будущее через шесть веков, своим вторым концом нашел твердую опору в XX веке, веке распада буржуазной культуры.
Залы древней живописи резко отличаются от остальных залов галереи. По первому взгляду — ясностью, яркостью форм и цветов, структурностью. Когда начинаешь всматриваться, — выразительностью содержания, емкостью информации, точностью композиций, тщательным заботливым мастерством.
Перед людьми разворачивается богатство человеческого духовного мира, сияющего любовью и красотой.
Но «Троица» Рублева и «Спас» Звенигородский его же письма вырываются из всех икон. Вырываются!!! Скромностью, тишиной, спокойствием, точностью совершенства.
1. Скромность — непоколебимого утверждения.
2. Тишина — звонкая.
3. Спокойствие — трепещущее волнение жизни.
4. Точность совершенства — раскрытая на ладони для всех и потому невидимая, неуловимая.
В большом зале две разрушенные доски, покоробленные, в трещинах, на которых только местами осталось — письмо Рублева… и это… просто сам живой Рублев. Рублев, перед которым преклонялись толпы людей, Рублев, который благословляет вас сегодня. Нас не разлучило ни время, ни разрушения, потому что силой и емкостью идей пропитан каждый сантиметр его формы.
(…) Возле иконы вам незачем толпиться в одном углу, выбирая «точку» зрения, так как художник не с одной «точки» и не об одной «точке» писал. Он писал приемами естественными, свойственными природе, а не однозначными, то есть приемами обратной или обращенной перспективы, которая вводит всех присутствующих, со всех сторон в глубину своей двухмерной плоской (с точки зрения прямой) перспективы.
И дальше раскрывает столь обширный во всех смыслах мир: философских, научных, психологических, формальных, чувственных представлений и восприятий, что у зрителя кружится голова от сокровищ, и он понимает, что эту икону нельзя «посмотреть», а надо к ней приходить и жить с нею.
Но ведь приходить могут только москвичи и приезжие. А народ? Равный и разный?
Во время работы, которая началась в 1967 году, мне пришлось очень тяжело, я всматривалась в начертательные знаки почерка Рублева и старалась, отвечая, следовать ему на его языке, но долгое время беседы не получалось.
Следила за начатой фразой и наталкивалась на ее потерю, или снова находила лад, но он перебивался совсем другим языком, который был мне чужд и вызывал раздражение.
После галереи я просиживала долгие часы дома, беспрерывно рисуя и выписывая какие-нибудь два сантиметра поверхности, которых не было в натуре. Просто все было содрано до левкаса или подмалевка. Но если не найти формы и границы кусочков, то нечего пытаться подбирать звенящий цвет — количество
цвета меняет силу цвета. А у меня и без того была задача по условиям печати противоестественная, невозможная трудность — уменьшение иконы чуть ли не в 4 раза. Во имя распространения ее влияния. Тогда по ночам я стала записывать вот эти мысли, которые мне приходили в голову во время работы. Для самопроверки, контроля своего следования за Рублевым.
Чем дальше и мучительнее становилось работать, тем глубже и значительнее вырастало в моем сознании гениальное решение А. Рублева: общности всего со всем, нерасторжимой целостности мироздания и неопровержимости идеи равенства и братства народов мира.
Чем глубже всматривалась я в «Троицу», тем труднее становилось мне разобраться в этом огромном сложном живом организме иконы, сохранившем полностью информацию, несмотря на перечислимые воздействия физического мира во времени, включая реставрации, расчистки, переписки, дописки и утраты, вплоть до того, что первоначальный эффект ее, рассчитанный на золотой фон, золотые нимбы (доказываемый оставшимися следами многочисленных золотых ассистов, которые не могли существовать без золотого фона и нимбов, то есть живопись иконы была вписана в драгоценный материал, обладающий свойством сверкать или глохнуть неопределимой словами тьмой) — превратился в эффект противоположный: белые нимбы, белый фон, белый престол, утратившие форму гора, дерево, палаты, оставшиеся почти подмалевком, писанным охрой и зеленым санкирем, подмалевок, проглядывающий сквозь голубец (зеленый) и сквозь пурпур (охряной), — создали иконе мерцающую импрессионистическую поверхность, по которой рассыпан граненый почерк Рублева, местами правленный, как видно после расчисток. Все это сохраняется живым благодаря изумительной композиции и рисунку А. Рублева, потому что соединено плавным течением линий, переливанием их из одной в другую с повторами в различных по цвету формах и резким пересечением округлых прямыми, всегда выражающими и подчеркивающими содержание. Вертикальные, струящиеся по овалам фигур с усиленным качанием вверху (наклоны голов ангелов, подобных деревьям, клонимым ветром, мамврийский дуб и гора) пересекаются горизонтальными линиями престола, создающими плотину текучести, через которую зрение, возбужденное контрастом, падает на чашу с головой агнца и дальше книзу, чуть задержанное небольшим отверстием в престоле, попадает в зеркально увеличенное отражение чаши, заключенное смыкающимися ногами ангелов и их подножий.
Так зритель подготавливается А. Рублевым к обобщению: идея целостности мироздания и взаимосвязанности воплощена в форму углубленного овала лона чаши, вписанного в золотой прямоугольник полей. Но все это пришло во время работы с золотом.
Кто может смотреть на грязные подтеки с легким переливом серовато-сиреневого, совсем прозрачного, как бледное небо без солнца, — и видеть золото? И кто может, видя по всему полю иконы следы золотых ассистов, отрицать золото нимбов и фона? Как быть? Не погрешив перед Рублевым?
Подменять золото — словами о золоте хуже, чем переводить стихи с одного языка на другой. Кстати, и переводы живее тогда, когда заботятся о сохранении живого содержания, а не непередающейся буквальной подражательности (Шекспир, Байрон, Пушкин, Пастернак и т. д.). Выражение, а не подражание.
Я пошла вслед за Рублевым и начала работать с золотом. Золото уничтожало своим соседством цветную гамму сегодняшней «Троицы» и требовало четкой формы рисунка. Препятствия возникали по всему полю доски. Преодолевать их приходилось кистью, а не словами.
А Рублев писал народу, неграмотному, многомиллионному русскому народу, частью которого он был сам, несомненно получивший глубокое, разностороннее образование и впитавший тонкую культуру в среде людей Сергиевского круга, и народ умел прочитать его так, как трудно это нам, людям XX века. Чувство и ум людей, живущих теснее с природой, безусловно обладали остротой, наблюдательностью и проницательностью большей, чем чувства горожан последующих веков, с прогрессирующей в них, благодаря расцвету техники, атрофией.
Сегодняшняя, в импрессионистическом тумане, недосказанная, «Троица» не смогла бы объединить массы людей. А сейчас лишь ограниченная залом галереи и возможностью посмотреть ее на расстоянии нескольких шагов нескольким людям, то есть при создании ей аристократической недоступности познания, — может сохраняться тайна рублевского письма.
Века́ буржуазного расцвета — века́ забвения «Троицы». Но XX век, расколотый и трагичный, вновь поставил вопрос о живом, цельном человеке перед всем миром, и, забытый прежними веками, голос нашей «Троицы» вновь звучит вместе с народом.
Так первоначальная задача создания цветной автолитографии «Троицы» А. Рублева привела меня к такой ее трактовке.
Несколько лет тому назад заведующая отделом древнерусского искусства Третьяковской галереи Валентина Ивановна Антонова предложила мне сделать цветную автолитографию «Троицы» А. Рублева, мотивировав просьбу сильным искажением цвета при репродуцировании. Казалось, согласиться на это — значило отбросить свои темы, свою жизнь в XX веке и накопленный ремесленный опыт на неопределенное время, отдать <их> в репродукционный отдел.
Конец XIV — начало XV и XX век. Мост, перекинутый А. Рублевым в будущее через шесть веков, своим вторым концом нашел твердую опору в XX веке, веке распада буржуазной культуры.
Залы древней живописи резко отличаются от остальных залов галереи. По первому взгляду — ясностью, яркостью форм и цветов, структурностью. Когда начинаешь всматриваться, — выразительностью содержания, емкостью информации, точностью композиций, тщательным заботливым мастерством.
Перед людьми разворачивается богатство человеческого духовного мира, сияющего любовью и красотой.
Но «Троица» Рублева и «Спас» Звенигородский его же письма вырываются из всех икон. Вырываются!!! Скромностью, тишиной, спокойствием, точностью совершенства.
1. Скромность — непоколебимого утверждения.
2. Тишина — звонкая.
3. Спокойствие — трепещущее волнение жизни.
4. Точность совершенства — раскрытая на ладони для всех и потому невидимая, неуловимая.
В большом зале две разрушенные доски, покоробленные, в трещинах, на которых только местами осталось — письмо Рублева… и это… просто сам живой Рублев. Рублев, перед которым преклонялись толпы людей, Рублев, который благословляет вас сегодня. Нас не разлучило ни время, ни разрушения, потому что силой и емкостью идей пропитан каждый сантиметр его формы.
(…) Возле иконы вам незачем толпиться в одном углу, выбирая «точку» зрения, так как художник не с одной «точки» и не об одной «точке» писал. Он писал приемами естественными, свойственными природе, а не однозначными, то есть приемами обратной или обращенной перспективы, которая вводит всех присутствующих, со всех сторон в глубину своей двухмерной плоской (с точки зрения прямой) перспективы.
И дальше раскрывает столь обширный во всех смыслах мир: философских, научных, психологических, формальных, чувственных представлений и восприятий, что у зрителя кружится голова от сокровищ, и он понимает, что эту икону нельзя «посмотреть», а надо к ней приходить и жить с нею.
Но ведь приходить могут только москвичи и приезжие. А народ? Равный и разный?
Во время работы, которая началась в 1967 году, мне пришлось очень тяжело, я всматривалась в начертательные знаки почерка Рублева и старалась, отвечая, следовать ему на его языке, но долгое время беседы не получалось.
Следила за начатой фразой и наталкивалась на ее потерю, или снова находила лад, но он перебивался совсем другим языком, который был мне чужд и вызывал раздражение.
После галереи я просиживала долгие часы дома, беспрерывно рисуя и выписывая какие-нибудь два сантиметра поверхности, которых не было в натуре. Просто все было содрано до левкаса или подмалевка. Но если не найти формы и границы кусочков, то нечего пытаться подбирать звенящий цвет — количество
цвета меняет силу цвета. А у меня и без того была задача по условиям печати противоестественная, невозможная трудность — уменьшение иконы чуть ли не в 4 раза. Во имя распространения ее влияния. Тогда по ночам я стала записывать вот эти мысли, которые мне приходили в голову во время работы. Для самопроверки, контроля своего следования за Рублевым.
Чем дальше и мучительнее становилось работать, тем глубже и значительнее вырастало в моем сознании гениальное решение А. Рублева: общности всего со всем, нерасторжимой целостности мироздания и неопровержимости идеи равенства и братства народов мира.
Чем глубже всматривалась я в «Троицу», тем труднее становилось мне разобраться в этом огромном сложном живом организме иконы, сохранившем полностью информацию, несмотря на перечислимые воздействия физического мира во времени, включая реставрации, расчистки, переписки, дописки и утраты, вплоть до того, что первоначальный эффект ее, рассчитанный на золотой фон, золотые нимбы (доказываемый оставшимися следами многочисленных золотых ассистов, которые не могли существовать без золотого фона и нимбов, то есть живопись иконы была вписана в драгоценный материал, обладающий свойством сверкать или глохнуть неопределимой словами тьмой) — превратился в эффект противоположный: белые нимбы, белый фон, белый престол, утратившие форму гора, дерево, палаты, оставшиеся почти подмалевком, писанным охрой и зеленым санкирем, подмалевок, проглядывающий сквозь голубец (зеленый) и сквозь пурпур (охряной), — создали иконе мерцающую импрессионистическую поверхность, по которой рассыпан граненый почерк Рублева, местами правленный, как видно после расчисток. Все это сохраняется живым благодаря изумительной композиции и рисунку А. Рублева, потому что соединено плавным течением линий, переливанием их из одной в другую с повторами в различных по цвету формах и резким пересечением округлых прямыми, всегда выражающими и подчеркивающими содержание. Вертикальные, струящиеся по овалам фигур с усиленным качанием вверху (наклоны голов ангелов, подобных деревьям, клонимым ветром, мамврийский дуб и гора) пересекаются горизонтальными линиями престола, создающими плотину текучести, через которую зрение, возбужденное контрастом, падает на чашу с головой агнца и дальше книзу, чуть задержанное небольшим отверстием в престоле, попадает в зеркально увеличенное отражение чаши, заключенное смыкающимися ногами ангелов и их подножий.
Так зритель подготавливается А. Рублевым к обобщению: идея целостности мироздания и взаимосвязанности воплощена в форму углубленного овала лона чаши, вписанного в золотой прямоугольник полей. Но все это пришло во время работы с золотом.
Кто может смотреть на грязные подтеки с легким переливом серовато-сиреневого, совсем прозрачного, как бледное небо без солнца, — и видеть золото? И кто может, видя по всему полю иконы следы золотых ассистов, отрицать золото нимбов и фона? Как быть? Не погрешив перед Рублевым?
Подменять золото — словами о золоте хуже, чем переводить стихи с одного языка на другой. Кстати, и переводы живее тогда, когда заботятся о сохранении живого содержания, а не непередающейся буквальной подражательности (Шекспир, Байрон, Пушкин, Пастернак и т. д.). Выражение, а не подражание.
Я пошла вслед за Рублевым и начала работать с золотом. Золото уничтожало своим соседством цветную гамму сегодняшней «Троицы» и требовало четкой формы рисунка. Препятствия возникали по всему полю доски. Преодолевать их приходилось кистью, а не словами.
А Рублев писал народу, неграмотному, многомиллионному русскому народу, частью которого он был сам, несомненно получивший глубокое, разностороннее образование и впитавший тонкую культуру в среде людей Сергиевского круга, и народ умел прочитать его так, как трудно это нам, людям XX века. Чувство и ум людей, живущих теснее с природой, безусловно обладали остротой, наблюдательностью и проницательностью большей, чем чувства горожан последующих веков, с прогрессирующей в них, благодаря расцвету техники, атрофией.
Сегодняшняя, в импрессионистическом тумане, недосказанная, «Троица» не смогла бы объединить массы людей. А сейчас лишь ограниченная залом галереи и возможностью посмотреть ее на расстоянии нескольких шагов нескольким людям, то есть при создании ей аристократической недоступности познания, — может сохраняться тайна рублевского письма.
Века́ буржуазного расцвета — века́ забвения «Троицы». Но XX век, расколотый и трагичный, вновь поставил вопрос о живом, цельном человеке перед всем миром, и, забытый прежними веками, голос нашей «Троицы» вновь звучит вместе с народом.
Так первоначальная задача создания цветной автолитографии «Троицы» А. Рублева привела меня к такой ее трактовке.
ПИСЬМА А.Е. КИБРИКУ
14 июня 1969, Черепково (дача)
14 июня 1969, Черепково (дача)
(…) К «Троице» не прикасалась, не могу прийти в себя, как после сильного отравления. Только что-то читаю да пишу тебе письма. Да в мглистых дождливых днях проплывают обрывки прожитого. Замерзшие теплушки, закатные вечера в Шуколове, мы — завшивевшие в углу класса школы на полу вповалку в Самарканде, замерзшая квартира на Греческом, мама в тифу, хождение в техникум через весь Ленинград пешком, жизнь кочующего туземца в течение пятидесяти лет. И ничего похожего на прожитую жизнь ни в искусстве, ни в литературе, ни в газетах. Неинтересность всех «общений». Не удалось посмотреть мир, людей. Только книги да картины. Ожидание и терпение. (…) Но почему именно так прожитая жизнь породила «Онегина» и «Троицу», красивую, спокойную, добрую, вызвавшую столько злости у художников? (…) Но… я знаю, что все искусство, которое мы особенно любим, замешано на боли, потому что боль обостряет чувства. Вот этим последствием пережитой боли мы и любуемся. Парадоксально? Кульминация — Иисус Христос на кресте. Но кто согласится на крест?
Но «известности» двухтысячелетней и власти духовной хотят все. Только
даром, обманом, подделкой, насилием, хитростью, интригами, иногда духовно сложными и запутанными даже со своим собственным «я». В последнем случае самым искренним образом считающие себя честными. Эх!
Мой родной и любимый, хоть мои письма, наверное, яростный диссонанс твоей жизни, но мне не хочется писать фальшивые слова, к чему они? Да и все это не так плохо, потому что я иначе жить и думать не смогла бы, а в этой мгле, листве, дожде (…) в ночах, одурманенных снотворными, что-нибудь все же сделаю, когда сяду за «Троицу». Мне только трудно за нее взяться. По Достоевскому — все сапоги и сапоги наступают, как из подвального окна, видишь одни сапоги. Но пусть, наконец, пройдут и больше не мелькают, хотя бы на время.
Но «известности» двухтысячелетней и власти духовной хотят все. Только
даром, обманом, подделкой, насилием, хитростью, интригами, иногда духовно сложными и запутанными даже со своим собственным «я». В последнем случае самым искренним образом считающие себя честными. Эх!
Мой родной и любимый, хоть мои письма, наверное, яростный диссонанс твоей жизни, но мне не хочется писать фальшивые слова, к чему они? Да и все это не так плохо, потому что я иначе жить и думать не смогла бы, а в этой мгле, листве, дожде (…) в ночах, одурманенных снотворными, что-нибудь все же сделаю, когда сяду за «Троицу». Мне только трудно за нее взяться. По Достоевскому — все сапоги и сапоги наступают, как из подвального окна, видишь одни сапоги. Но пусть, наконец, пройдут и больше не мелькают, хотя бы на время.
28 июля 1969, Черепково
(…) Неужели надо было превратиться в такой обломок, утратить способность двигаться, стать никому не нужной и одинокой для того, чтобы уразуметь искусство?
До 1930 года и после 58-го. Что мешало? Семья? Отсутствие религиозности? Так будет и у вас? Не знаю (…) А ведь те 30 лет, которые мне казались жизнью, были тупым мраком. И все эти 30 лет я не понимала искусство. В чем же осуждать других?
До 1930 года и после 58-го. Что мешало? Семья? Отсутствие религиозности? Так будет и у вас? Не знаю (…) А ведь те 30 лет, которые мне казались жизнью, были тупым мраком. И все эти 30 лет я не понимала искусство. В чем же осуждать других?
9 августа 1969, Черепково
Если в Емуртле риск одиночества заключался в поездках по бескрайним морозным степям, по которым гуляли волки, метели и одна я в корзинке на дровнях, впряженных в тощего от голода одра, то сейчас он заключается в моем поломанном скелете и разрушенном сердце, да и только ли? Все во мне от времени обветшало. Но и в том, и в другом случае я испытываю какую-то странную глубину чувств. Наверное, это было у всех русских отшельников и у моего отца, когда в моем детстве он часто говаривал, что уйдет в лес открывать истину. Что-то в крови было. И что-то живет в моей крови. У мамы этого не было совсем. И тогда, и после, всю жизнь я любила это особое состояние (…) Может, это просто любовь к риску?
(…) Первый раз в жизни меня живой человек спросил о Мансурове. А он все равно был оригинальный и талантливый человек. Не знаю, жив ли он сейчас. Он старше меня был лет на 10−12.
(…) Первый раз в жизни меня живой человек спросил о Мансурове. А он все равно был оригинальный и талантливый человек. Не знаю, жив ли он сейчас. Он старше меня был лет на 10−12.
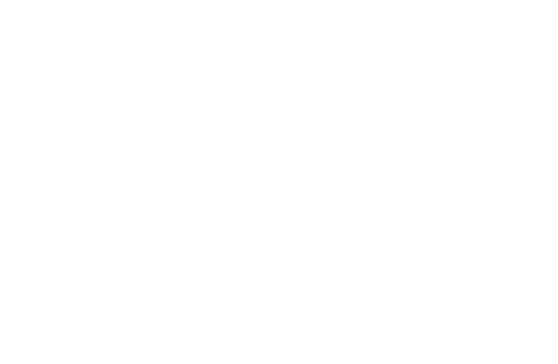
Лидия Тимошенко
ПИСЬМА К П.А. МАНСУРОВУ В ПАРИЖ
17 октября 1970, Москва
17 октября 1970, Москва
Здравствуйте, Павел Андреевич!
Как не поздороваться через сорок два года!
Сегодня весь вечер у меня просидел Евгений Федорович Ковтун. Он пришел с письмами от Вас и некоторые мне читал. Я Вас не забывала, а просто не знала Вашего адреса. В одном из писем Вы вспоминаете о сердитой Лидии Тимошенко. Я и сейчас такая же, и тут же Вам это докажу: Вы мне напоминаете остановившиеся часы. Матисс в 1911 году писал, что учиться живописи надо в России, а не в Италии. Э. Фромантен, автор «Старых мастеров», обескураженный французским импрессионизмом, уехал в Нидерланды и Голландию. П. Флоренский писал: «Математически нормализовать приемы изобразительного мира это задача самонадеянности безумной». Вы, наверное, знаете, что он был профессором математики в Московском университете, но ходил на лекции в рясе? Во ВХУТЕМАСе он читал лекции об иконописи и обратной перспективе в иконах. Я жила в Ленинграде и тогда о нем не знала. Но Фаворский, слушая его лекции, понял, что икона и книга есть вещь, но не понял, что вещь живая, следовательно, жизнь вещи — отсюда после «Руфи» дальнейший его натурализм. Ну, ладно. Забила гол в Ваши ворота.
Помните? Как Вы хорошо меня учили — заставив углем рисовать бабу в кокошнике с жемчугами и платком, наброшенным на плечи — цветастым? Причем штрихами, а не врастирку. С тех пор я всегда заботилась о фактуре. Все то, что Вы говорили о А. Бенуа («Мире искусства») и полешанах, — абсолютно точно.
Новосибирская академия наук, познакомившись с сестрой Филонова, устроила у себя выставку Филонова. Эта выставка переехала в Москву, в Институт Курчатова. Несмотря на абсолютное отсутствие афиши, туда шел крестный ход. Студенты химики, физики, математики, поставив лестницу, проломили во втором этаже окна, только чтобы посмотреть.
Американцы предложили сестре миллионы, но она не продала ни одного рисунка, ни одной картины, сказав, что будет «нищей миллионеркой». Сейчас работы хранит Русский музей в Ленинграде.(…)
Евгений Федорович произвел на меня впечатление очень честного и по-хорошему упрямого человека. Но искусствовед все же всегда человек на костылях. Об искусстве точка.
(…) Пять лет назад, бросив на полпути Адама с Евой, я в «Троице» Рублева потонула. Милый, милый, Павел Андреевич! Чем Вас развеселить? Я такая же, как в детстве, и такая, как была с Вами. Андрей Яковлев погиб на фронте, но я постараюсь узнать о нем подробнее, а пока лежу, и вставать мне нельзя (…)
Как не поздороваться через сорок два года!
Сегодня весь вечер у меня просидел Евгений Федорович Ковтун. Он пришел с письмами от Вас и некоторые мне читал. Я Вас не забывала, а просто не знала Вашего адреса. В одном из писем Вы вспоминаете о сердитой Лидии Тимошенко. Я и сейчас такая же, и тут же Вам это докажу: Вы мне напоминаете остановившиеся часы. Матисс в 1911 году писал, что учиться живописи надо в России, а не в Италии. Э. Фромантен, автор «Старых мастеров», обескураженный французским импрессионизмом, уехал в Нидерланды и Голландию. П. Флоренский писал: «Математически нормализовать приемы изобразительного мира это задача самонадеянности безумной». Вы, наверное, знаете, что он был профессором математики в Московском университете, но ходил на лекции в рясе? Во ВХУТЕМАСе он читал лекции об иконописи и обратной перспективе в иконах. Я жила в Ленинграде и тогда о нем не знала. Но Фаворский, слушая его лекции, понял, что икона и книга есть вещь, но не понял, что вещь живая, следовательно, жизнь вещи — отсюда после «Руфи» дальнейший его натурализм. Ну, ладно. Забила гол в Ваши ворота.
Помните? Как Вы хорошо меня учили — заставив углем рисовать бабу в кокошнике с жемчугами и платком, наброшенным на плечи — цветастым? Причем штрихами, а не врастирку. С тех пор я всегда заботилась о фактуре. Все то, что Вы говорили о А. Бенуа («Мире искусства») и полешанах, — абсолютно точно.
Новосибирская академия наук, познакомившись с сестрой Филонова, устроила у себя выставку Филонова. Эта выставка переехала в Москву, в Институт Курчатова. Несмотря на абсолютное отсутствие афиши, туда шел крестный ход. Студенты химики, физики, математики, поставив лестницу, проломили во втором этаже окна, только чтобы посмотреть.
Американцы предложили сестре миллионы, но она не продала ни одного рисунка, ни одной картины, сказав, что будет «нищей миллионеркой». Сейчас работы хранит Русский музей в Ленинграде.(…)
Евгений Федорович произвел на меня впечатление очень честного и по-хорошему упрямого человека. Но искусствовед все же всегда человек на костылях. Об искусстве точка.
(…) Пять лет назад, бросив на полпути Адама с Евой, я в «Троице» Рублева потонула. Милый, милый, Павел Андреевич! Чем Вас развеселить? Я такая же, как в детстве, и такая, как была с Вами. Андрей Яковлев погиб на фронте, но я постараюсь узнать о нем подробнее, а пока лежу, и вставать мне нельзя (…)
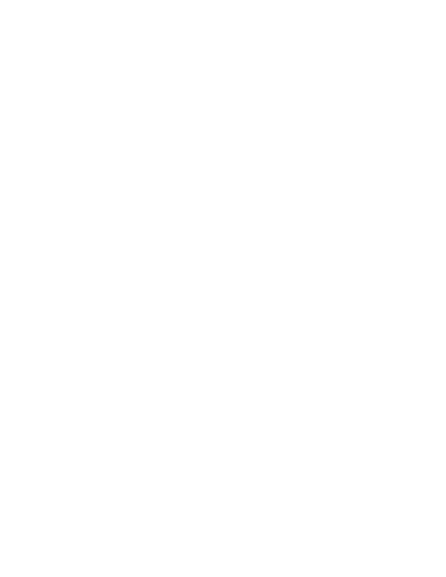
Павел Мансуров. 1970-е, Париж, студия на Монмартре

А.Е. Кибрик
сын Лидии Тимошенко
В последнем адресованном мне письме (я в это время находился в экспедиции на Памире) мама упоминает о Мансурове. Речь идет о том, что ее навестил ленинградский искусствовед Е. Ф. Ковтун, занимавшийся творчеством П. Мансурова. Он разыскал его координаты в Париже, и между мамой и Мансуровым завязалась оживленная переписка. Он жил на знаменитом Монмартре одиноко, занимался одними абстракциями, дружил с Набоковым, готовился к своей персональной выставке. По его просьбе мама выслала ему для этой выставки фотографию, на которой были изображены П. Мансуров, А. Яковлев (погибший в войну) и Л. Тимошенко.
В своих письмах они вспоминали далекое прошлое (П. Мансуров удивительно хорошо помнил это время с именами, названиями и адресами), рассказывали о своей последующей жизни (таково приводящееся ниже письмо Л. Тимошенко). У Мансурова в мастерской побывал наш семейный друг Ф. Кемпе (ГДР), сделавший слайды с его работ. Конечно, творческие пути мамы и Мансурова совершенно разошлись и им были взаимно чужды их нынешние работы (мама тоже посылала ему свои слайды), и эта переписка вскоре прекратилась, но она всколыхнула прошлое, высветила перспективу жизни.
В своих письмах они вспоминали далекое прошлое (П. Мансуров удивительно хорошо помнил это время с именами, названиями и адресами), рассказывали о своей последующей жизни (таково приводящееся ниже письмо Л. Тимошенко). У Мансурова в мастерской побывал наш семейный друг Ф. Кемпе (ГДР), сделавший слайды с его работ. Конечно, творческие пути мамы и Мансурова совершенно разошлись и им были взаимно чужды их нынешние работы (мама тоже посылала ему свои слайды), и эта переписка вскоре прекратилась, но она всколыхнула прошлое, высветила перспективу жизни.
11 марта 1971, Москва
От второй жены у отца была дочка, которая умерла, а жена куда-то исчезла. С третьей я переговариваюсь по телефону. Мама умерла в 1946 году, Вава в 1951, Арсений в 1955 году. Мой отец вернулся из ссылки в 1945 году в Москву, и сразу пришел ко мне; его третья жена тоже жила в Москве, с нею у меня была связь с 1928 года, когда отца арестовали. Суд был в Ленинграде. Мама взяла к себе Катю (третью его жену) с двумя детьми и ее матерью, и год она жила у нас и носила передачи отцу; через год 16 человек были отправлены в Сибирь, где отец прожил до 1945 года (…) Когда он вернулся, (…) он жил в кухне в маленьком закутке за ситцевой занавеской. Я ему помогала. Но в то время сама жила в бараке без отопления, без водопровода и с уборной на улице, с двумя детьми и мужем Е. А. Кибриком. (…) Отец просил меня написать матери: может ли он вернуться на Греческий проспект, но мама передала: только после моей смерти. Первые годы он часто ходил ко мне, но в 1951 году у него был первый инсульт (…) Перед самой смертью, уже почти без сознания, все звал маму, Ваву. Так мне рассказывала Катя. Тогда я сама болела.
“
ИЗ ПИСЬМА П.А. МАНСУРОВА 8-ЛЕТНЕМУ ВНУКУ Л. ТИМОШЕНКО
13 мая 1971, Париж
Дорогой Андрюша, я старый. И старый друг Лидии Яковлевны. Я храню о ней и вместе с ней память о счастливых днях моей жизни. Она мне писала, что очень любит Вас или, лучше, тебя. И что она возлагает большие надежды на твои будущие успехи. Париж очень большой Город. Здесь умещаются и Ад и Рай. Это совсем не загадочно, потому что это везде так. И всякому приходится идти своей дорогой. А они у всех разные. Здесь потому к добру и злу совершенно равнодушны и попавшему в беду нет спасения. И чтобы избегнуть беды, нужно начать идти по совету старших, как это делается у всех живых существ в мире. И у птиц, и у зверей, и… у людей. Надо прислушиваться к человеку опытному и лучше к родному, тогда встреченные заторы будет обходить легче, как человеку опытному, воспитанному из поколения в поколение. Привет Нине и всем твоим родным. Мой адрес знает Лидочка.
Твой друг П. Мансуров
13 мая 1971, Париж
Дорогой Андрюша, я старый. И старый друг Лидии Яковлевны. Я храню о ней и вместе с ней память о счастливых днях моей жизни. Она мне писала, что очень любит Вас или, лучше, тебя. И что она возлагает большие надежды на твои будущие успехи. Париж очень большой Город. Здесь умещаются и Ад и Рай. Это совсем не загадочно, потому что это везде так. И всякому приходится идти своей дорогой. А они у всех разные. Здесь потому к добру и злу совершенно равнодушны и попавшему в беду нет спасения. И чтобы избегнуть беды, нужно начать идти по совету старших, как это делается у всех живых существ в мире. И у птиц, и у зверей, и… у людей. Надо прислушиваться к человеку опытному и лучше к родному, тогда встреченные заторы будет обходить легче, как человеку опытному, воспитанному из поколения в поколение. Привет Нине и всем твоим родным. Мой адрес знает Лидочка.
Твой друг П. Мансуров
“
ИЗ ПИСЬМА П.А. МАНСУРОВА К Л. ТИМОШЕНКО
13 мая 1971, Париж
Дорогая, любимая, добрая все такая же, как и раньше, Лидочка. Очень удивляюсь, что в Москву письма идут дольше, чем в Алма-Ату. А я все от Вас получаю. Например, от 7-го мая я получил сейчас (12 мая), так что это гораздо быстрее, чем письма или особенно каталоги идут из Италии. А о Германии и ее почте я могу говорить только самое наихудшее. Переписка попросту немыслима. …
Фотографии, если возможно, пересниму и пришлю. Эти отпечатки, которые я получил, кроме одной Инхуковской, которая до сего времени очень ясна, остальные довольно утомлены, но при очень хорошем мастере все же восстановимы.
Я, дорогая Лидочка, наверно не отношусь к тем, кто дает Вам уроки. Я сам должен учиться у Вас, до того Вы много знаете. Я как зритель только могу заметить что-нибудь и считаю долгом сказать, если мне доверяют, и только по Дружбе. Я и в Школе-то никого ничему не учил, только старался, чтоб меня поняли, объясняя по-своему, как я понимаю предмет. Это самое главное. О чем мне мои учителя совершенно упускали из виду сказать. Я не получил в Школе ни одного профессионального указания или совета. Оттуда, может быть, идет, что я принужден был вновь по-своему начать с точки или понятных мне по Авиационному Парку линий и скрещений, всегда восхищавших меня, и таких же простых индустриальных цветов. Но это казалось просто и ясно. А оказалось, что эта работа навряд ли может быть и начата, как у меня, и закончена мною же. Для этого мало и ста лет. Потому что все это летит и взаимоизменяется и все это выходит и обратно входит в Природу. Под которой я понимаю не только цветочки и ягодки и мурлыканье кошечки, а массу того, что вокруг меня, в том числе и писк и гам, и пыль, и грязь, и чуму разного рода. И так это идет без остановки миллионы лет. Ни в глубь веков, ни в даль времен проникать я не задался целью. Я даже очень слаб, чтоб пластически выразить, как цифрой, точно, хотя и тоже условно, но чтоб было понято безусловно и даже не «понято», а только блеснуло бы перед зрителем моего века и осталось бы, как вонь или аромат от выжатого мною цветка — моего времени. А тут или там — так вышло, что весь мир мне дом. Редко с мягкой кроватью или того реже, то не повторится даже никогда, как сеновал в Трещатове. Если б Вы знали, как это незабываемо. И Вы все. Да, жил в Раю, а теперь спустился в Ад, и сердце разорвалось, но хочу и с разорванным что-то доделать. И Вы забудьте о всяких болезнях. Надо нам бодриться и искать воздух лесной почище…
Да, русский язык я не забыл, но пишу с ошибками. Это не значит, что я по-французски пишу без ошибок. Совсем не знаю французского языка. У меня нет привычки прислушиваться к чужим разговорам, а это самое главное. Кроме того, я ни разу не взял французской грамматики. Об этом, собственно, и говорить стыдно, но я Вам все говорю. И я не один такой, из известных мне, например, Ф.Ив. Шаляпин пел по-французски, по-итальянски, по-испански, но ни одного из этих языков не знал. Вот его дети великолепно говорят на многих языках. Коровин говорил очень плохо. Ларионов и я, мы конкурировали в незнании французского языка. Гончарова говорила и писала отлично. Надо мыслить по-французски, тогда и говорить просто. А перечисленные и многие прочие закостенели в русскости органически, и эта органическая корка не смывается никаким марсельским мылом. «Молодежный» разговор это тоже для меня загадка, почему не просто разговор молодежи. Но самое ужасное для моего слуха, — это «правильный русский язык», как в художественном театре. Так по-«русски» ни в какой части России не говорили. Это какой-то парафин вместо воска.
Религия это слово для меня непонятно. Я знаю, что я живу в раю пыли и грязи, и ими восхищен. Еще больше я был восхищен, когда я жил в лесу и в поле. Но того здесь нет. Иногда попадаешь просто в приятные места, где я из учений вспоминаю только одно: Не мудрствуй от Лукавого. И есть много «религий». А мы, — это уметь ощущать себя и место, где ты поставлен. А боги, люди и народы исчезнут навсегда, как текучая вода, в гибком зеркале Природы. Небо невод. Звезды мы. Боги призраки у тьмы. Приблизительно так говорил Хлебников. И из мира добровольно делать душный клоповник и там ютиться, «спасаясь», чтоб к тебе не прилипло сегодня? Да, были времена, и были великие народы, и я говорил, что все, что было, быльем поросло. Все уплыло, все давно прошло — пели древние цыгане.
Целую, целую мою Любимую Лидочку.
Ваш П. Мансуров
13 мая 1971, Париж
Дорогая, любимая, добрая все такая же, как и раньше, Лидочка. Очень удивляюсь, что в Москву письма идут дольше, чем в Алма-Ату. А я все от Вас получаю. Например, от 7-го мая я получил сейчас (12 мая), так что это гораздо быстрее, чем письма или особенно каталоги идут из Италии. А о Германии и ее почте я могу говорить только самое наихудшее. Переписка попросту немыслима. …
Фотографии, если возможно, пересниму и пришлю. Эти отпечатки, которые я получил, кроме одной Инхуковской, которая до сего времени очень ясна, остальные довольно утомлены, но при очень хорошем мастере все же восстановимы.
Я, дорогая Лидочка, наверно не отношусь к тем, кто дает Вам уроки. Я сам должен учиться у Вас, до того Вы много знаете. Я как зритель только могу заметить что-нибудь и считаю долгом сказать, если мне доверяют, и только по Дружбе. Я и в Школе-то никого ничему не учил, только старался, чтоб меня поняли, объясняя по-своему, как я понимаю предмет. Это самое главное. О чем мне мои учителя совершенно упускали из виду сказать. Я не получил в Школе ни одного профессионального указания или совета. Оттуда, может быть, идет, что я принужден был вновь по-своему начать с точки или понятных мне по Авиационному Парку линий и скрещений, всегда восхищавших меня, и таких же простых индустриальных цветов. Но это казалось просто и ясно. А оказалось, что эта работа навряд ли может быть и начата, как у меня, и закончена мною же. Для этого мало и ста лет. Потому что все это летит и взаимоизменяется и все это выходит и обратно входит в Природу. Под которой я понимаю не только цветочки и ягодки и мурлыканье кошечки, а массу того, что вокруг меня, в том числе и писк и гам, и пыль, и грязь, и чуму разного рода. И так это идет без остановки миллионы лет. Ни в глубь веков, ни в даль времен проникать я не задался целью. Я даже очень слаб, чтоб пластически выразить, как цифрой, точно, хотя и тоже условно, но чтоб было понято безусловно и даже не «понято», а только блеснуло бы перед зрителем моего века и осталось бы, как вонь или аромат от выжатого мною цветка — моего времени. А тут или там — так вышло, что весь мир мне дом. Редко с мягкой кроватью или того реже, то не повторится даже никогда, как сеновал в Трещатове. Если б Вы знали, как это незабываемо. И Вы все. Да, жил в Раю, а теперь спустился в Ад, и сердце разорвалось, но хочу и с разорванным что-то доделать. И Вы забудьте о всяких болезнях. Надо нам бодриться и искать воздух лесной почище…
Да, русский язык я не забыл, но пишу с ошибками. Это не значит, что я по-французски пишу без ошибок. Совсем не знаю французского языка. У меня нет привычки прислушиваться к чужим разговорам, а это самое главное. Кроме того, я ни разу не взял французской грамматики. Об этом, собственно, и говорить стыдно, но я Вам все говорю. И я не один такой, из известных мне, например, Ф.Ив. Шаляпин пел по-французски, по-итальянски, по-испански, но ни одного из этих языков не знал. Вот его дети великолепно говорят на многих языках. Коровин говорил очень плохо. Ларионов и я, мы конкурировали в незнании французского языка. Гончарова говорила и писала отлично. Надо мыслить по-французски, тогда и говорить просто. А перечисленные и многие прочие закостенели в русскости органически, и эта органическая корка не смывается никаким марсельским мылом. «Молодежный» разговор это тоже для меня загадка, почему не просто разговор молодежи. Но самое ужасное для моего слуха, — это «правильный русский язык», как в художественном театре. Так по-«русски» ни в какой части России не говорили. Это какой-то парафин вместо воска.
Религия это слово для меня непонятно. Я знаю, что я живу в раю пыли и грязи, и ими восхищен. Еще больше я был восхищен, когда я жил в лесу и в поле. Но того здесь нет. Иногда попадаешь просто в приятные места, где я из учений вспоминаю только одно: Не мудрствуй от Лукавого. И есть много «религий». А мы, — это уметь ощущать себя и место, где ты поставлен. А боги, люди и народы исчезнут навсегда, как текучая вода, в гибком зеркале Природы. Небо невод. Звезды мы. Боги призраки у тьмы. Приблизительно так говорил Хлебников. И из мира добровольно делать душный клоповник и там ютиться, «спасаясь», чтоб к тебе не прилипло сегодня? Да, были времена, и были великие народы, и я говорил, что все, что было, быльем поросло. Все уплыло, все давно прошло — пели древние цыгане.
Целую, целую мою Любимую Лидочку.
Ваш П. Мансуров
ДНЕВНИК
10 июля 1971, Москва
10 июля 1971, Москва
Все уродливое изображать легко. Трудна живая красота.
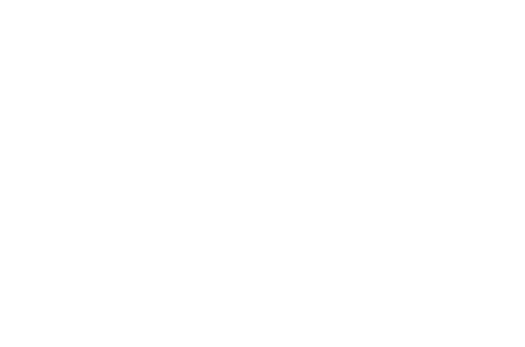
Лидия Тимошенко с внуком Андреем Кибриком. 1971
Адя! Сегодня я видела телефильм, документальный — «Черная скала». Он скоро пойдет в кино, наверное будет и в Путивле. «Черная скала» — о слоне, а мальчик индус. Этот фильм снят в Индии. Слон и мальчик полюбили друг друга, и слон берег мальчика как своего сына. После фильма я вспомнила свое детство и лошадей. Мне стало грустно, что ты детство живешь без больших животных и боишься их. Рыбы это не то. И чужой слон, чужая собака, чужая лошадь — это не то. То получается, когда любят друг друга. А после был <фильм>, в котором женщину затоптали лошади на охоте. Это произошло потому, что она скакала на чужой лошади. И за ней скакали тоже чужие лошади, которые ее и растоптали. Наше детство было настоящим раем среди разных животных и птиц. Мы с братом Арсением ложились в сено и зарывали в него куски сахара, а наши лошади Дуська и Медянка осторожно ступали между нами и разыскивали эти куски сахара. Мы не боялись лежать под ними. Лошади были горячие и молодые. А во дворе у амбара на цепи жил сенбернар. Эта собака крупнее теленка. Его боялись все взрослые, не трогал он только Ваву и меня. Я хотела бы тебе подарить большую собаку — шотландского колли, или ищейку, похожую на волка, или сибирскую лайку. Может быть, я попрошу папу, чтобы он привез тебе щенка. Посмотрим. Я тебе пошлю карточку нашего Ральфа (шотландского колли). Однажды он лаял на большую лошадь, першерона Машку. Ей надоело, она схватила его за шерсть, так чтобы не прокусить, подняла его в воздух и подержала, а потом выпустила на землю. С тех пор он никогда на нее не лаял. Шотландские колли загоняют домой стада овец, это у них в крови. Такой инстинкт.
Однажды сенбернар сорвался с цепи и кинулся за теленком. Они по большому двору, как на корте, промчались несколько кругов, а мы с Вавой стояли у калитки во двор. Вава подловила момент — кинулась и села на него верхом. Сенбернар от неожиданности остановился, но Ваву не тронул. И теленок был спасен. Чем крупнее животные, тем больше они любят детей (…)
Рисуешь ли ты карандашом, как советовал Павел Андреевич Мансуров?
(…) Как у тебя дела с музыкой? Мне почти всегда не нравится музыка, которая сопровождает пейзажи и церкви. Музыка об одном, а пейзажи,
церкви и дома совсем о другом (…)
Однажды сенбернар сорвался с цепи и кинулся за теленком. Они по большому двору, как на корте, промчались несколько кругов, а мы с Вавой стояли у калитки во двор. Вава подловила момент — кинулась и села на него верхом. Сенбернар от неожиданности остановился, но Ваву не тронул. И теленок был спасен. Чем крупнее животные, тем больше они любят детей (…)
Рисуешь ли ты карандашом, как советовал Павел Андреевич Мансуров?
(…) Как у тебя дела с музыкой? Мне почти всегда не нравится музыка, которая сопровождает пейзажи и церкви. Музыка об одном, а пейзажи,
церкви и дома совсем о другом (…)
Отдельная запись
22 июля 1971, Москва
22 июля 1971, Москва
(…) Павел Андреевич не позволял в рисунке размазывать уголь. Он хотел, чтобы каждая икринка не была раздавлена. Рисунок простым углем на простой бумаге без мазни становился таким же ясным и выразительным, как игра пианиста И. Фельцмана и скрипачки Лидии Дубровской, получивших только что премию на Парижском конкурсе. Торжество воистину блистательного формализма (слово, которое можно заменить классицизмом) царило на конкурсе: природа, мастерство, отточенность деталей поражали жюри конкурса. Торжествовал гонимый в других областях творчества формализм.
Но природа — отчаянная формалистка и жестоко бьет нарушающих ее законы, разрушающих ее опыт, собранный всеми предыдущими веками и тысячелетиями. Нарушающих ее каноны, ее религию. Борцы с религией природы обречены на гибель в хаосе.
Есть еще одно свойство у вещей. Я бы назвала его тайным свойством. Потому что это свойство предельной скромности. Вещь существует — но
молчит. Она говорит только с тем, у кого родственное сердце с ее создателем. Остальные или проходят мимо, или равнодушно пользуются вещами. Так, сегодня люди садятся в поезд, в метро, в машину, в самолет, в вертолет, не задумываясь о создателях этой вещи и о причинах ее возникновения, сохраняющих их энергию в их личных целях. Одни живут надличным — дают, другие личным — берут. Дающих мало, берущих много. И те, кто дает, — почти всегда в истории человечества уничтожались берущими. Кто мог предвидеть, что бесполезное станет полезным? А полезное — бесполезным? Но бессмертная формалистка природа — злопамятна и мстит легкомысленным эгоистам вымиранием цивилизаций, построенных по такой системе.
Но природа — отчаянная формалистка и жестоко бьет нарушающих ее законы, разрушающих ее опыт, собранный всеми предыдущими веками и тысячелетиями. Нарушающих ее каноны, ее религию. Борцы с религией природы обречены на гибель в хаосе.
Есть еще одно свойство у вещей. Я бы назвала его тайным свойством. Потому что это свойство предельной скромности. Вещь существует — но
молчит. Она говорит только с тем, у кого родственное сердце с ее создателем. Остальные или проходят мимо, или равнодушно пользуются вещами. Так, сегодня люди садятся в поезд, в метро, в машину, в самолет, в вертолет, не задумываясь о создателях этой вещи и о причинах ее возникновения, сохраняющих их энергию в их личных целях. Одни живут надличным — дают, другие личным — берут. Дающих мало, берущих много. И те, кто дает, — почти всегда в истории человечества уничтожались берущими. Кто мог предвидеть, что бесполезное станет полезным? А полезное — бесполезным? Но бессмертная формалистка природа — злопамятна и мстит легкомысленным эгоистам вымиранием цивилизаций, построенных по такой системе.
ДНЕВНИК
10 сентября 1971, Москва
10 сентября 1971, Москва
Платон всю жизнь писал воспоминания о Сократе. И писал удивительно
живо и точно.
А Сократ не написал ни одного слова. Он только разговаривал с учениками. Почему? Почему? Но он говорил: наша жизнь лишь воспоминание прошлого (…) Иисус Христос тоже ничего не писал. Писали за него 12 апостолов.
Выдумала ли я Павла Мансурова? Зачем я ему написала гору писем? Но он был. Мой первый и почему-то только один учитель. Больше ко мне не пристало ни от кого. Но почему? И зачем мне сейчас о нем думать, когда все кончилось. Люди очень любят иметь воспоминания. Особенно старики. А мне скучно. Наверное, слишком полон сегодняшний день и не хватает в сознании места. Право, кисть благодарней. Образы порождаются и развиваются, даже если лежу больная.
живо и точно.
А Сократ не написал ни одного слова. Он только разговаривал с учениками. Почему? Почему? Но он говорил: наша жизнь лишь воспоминание прошлого (…) Иисус Христос тоже ничего не писал. Писали за него 12 апостолов.
Выдумала ли я Павла Мансурова? Зачем я ему написала гору писем? Но он был. Мой первый и почему-то только один учитель. Больше ко мне не пристало ни от кого. Но почему? И зачем мне сейчас о нем думать, когда все кончилось. Люди очень любят иметь воспоминания. Особенно старики. А мне скучно. Наверное, слишком полон сегодняшний день и не хватает в сознании места. Право, кисть благодарней. Образы порождаются и развиваются, даже если лежу больная.
Отдельная запись
Без даты, Москва
Без даты, Москва
Эгоист, создавая в сознании свою увеличенную тень, закрывающую от его глаз мир, становится слепым и естественно бесполезным. Эгоистам необходим поводырь.
ДНЕВНИК
5 января 1972, Москва
5 января 1972, Москва
Нет плохих цветов, есть плохие сочетания. Что с чем соединить.
Письмо в редакцию
31 января 1972, Москва
31 января 1972, Москва
В редакцию «Блокнота агитатора»
от художницы Тимошенко Лидии Яковлевны
Москва Г-314, Б. Девятинский пер., 5, кв. 3
тел. 252−00−24
Сообщение и просьба
В «Блокноте агитатора» № 1 за 1972 год в рубрике «Никто не забыт, ничего не забыто» есть статья Г. Старостина «Вернисаж в осажденном городе». Я родилась в Ленинграде, там же выросла, училась и работала до 1941 г., когда эвакуировалась с лагерем Художественного фонда с двумя детьми: 8 и 2 лет. Старший сын (Николай) — от моего бывшего мужа Давида Ефимовича Загоскина. В первых числах февраля 1942 года я получила в Сибири известие о смерти Д. Е. Загоскина от его брата Г. Загоскина со всеми подробностями. Сын Д. Е. Загоскина от первого брака Лева, окончив золотым медалистом школу в 16 лет, ушел добровольцем на фронт и на второй месяц был убит. У меня есть письмо, написанное Д. Загоскиным в Емуртлу в августе 1941 года нашему общему сыну Николаю Загоскину.
Из эвакуации я добралась в 1944 году до Москвы и с тех пор веду розыски работ Д. Загоскина, но безрезультатно. Много раз обращалась и к родственникам Д. Загоскина, и в ЛОСХ, и ко всем членам общества «Круг», в котором мы с Загоскиным состояли. Знаю, что две большие комнаты Загоскина были целиком набиты работами. Но я не знала, что работы Д. Загоскина были на выставке, и никто ни разу мне об этом не сказал. И вот сейчас впервые об этом читаю. И о том, что осенью, 4 октября 1942 года большая часть работ была перевезена в Москву и в Музее изобразительных искусств была открыта выставка, с которой все работы были приобретены.
Кто же забыт и что забыто? И почему забыто? Не хватило ли места или сработали другие причины, по которым работы одного из самых талантливых художников и организаторов общества «Круг» пропали?
Д. Загоскин с 16 лет был красногвардейцем в г. Витебске. Коммунист. Депутат <горсовета> г. Ленинграда, занятый с первых дней войны маскировкой города и его окрестностей, в сверхурочные часы писавший картины о зверствах фашистов, представивший на выставку серию работ. Исчез, как будто не жил. Ни одной работы, как будто не был художником.
(…) Взволнованная заметкой Г. Старостина, убедительно прошу сообщить мне, где находятся работы Д. агоскина, и, если нужно, произвести розыск.

А.Е. Кибрик
сын Лидии Тимошенко
Эта заметка в «Блокноте агитатора» очень маму взволновала. Она ощущала на себе тяжесть невыполненного долга — найти и сохранить работы Д. Загоскина, рано ушедшего из жизни. Это письмо тогда результатов не дало, несмотря на дополнительные письма и звонки в редакцию ее знакомых по ее просьбе. Но тем не менее, хотя и после ее смерти, ее собственные работы помогли извлечь из небытия работы Д. Загоскина. На открытии ее выставки в Ленинграде в 1981 году я познакомился с родственниками Д. Загоскина и узнал, что большая коллекция графических листов хранится у его племянника И. Б. Загоскина. В 1988 году состоялась первая выставка графики Д. Загоскина в Доме писателя в Ленинграде. Возник интерес музеев и зрителей к его творчеству. Более того, в 1988 году в Новосибирске прошла совместная выставка работ Л. Тимошенко и Д. Загоскина. Мамино желание выполнено.
Из письма к М. Думмер
28 июня 1972, Москва
28 июня 1972, Москва
(…) И никого не осуждай: или мы виноваты все вместе, или никто, ни одна живая тварь (…)
ДНЕВНИК
16 сентября 1974, Москва
16 сентября 1974, Москва
Основной недостаток «воспоминаний» заключается в том, что человек подсознательно изменяет былое. Живое восприятие остается лишь в дневниках и письмах, датированных сегодняшним днем.
17 сентября 1974, Москва
Завтра мне 71 год. Давно пора косточкам или пеплу развеяться, но на все Божья воля.
18 сентября 1974, Москва
“
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Г. ЗАГОСКИНОЙ
1988, Москва
Я видела, с каким интересом и увлечением Лидия Яковлевна работала над «Троицей». Причем как работала! Подняла всю литературу по «Троице», ходила в Третьяковку, самым тщательнейшим образом разобралась в древней манере письма икон, сама составляла краски, и очень интересно обо всем этом рассказывала. И если ей что-то было интересно, то она в это новое окуналась с головой, могла думать и говорить только об этом. Ее высказывания часто бывали парадоксальны, резки, вызывали у меня активные возражения, мы спорили, мирились, нам было скучно друг без друга.
Лидии Яковлевны давно уже с нами нет, но и сегодня я многое в жизни меряю по ней, часто думаю «а вот что бы Лидия Яковлевна сказала в такой ситуации», как бы она себя чувствовала в нашей новой жизни. Человеком она была заинтересованным, всегда откликалась на любые события, и, если бы она сегодня была с нами, ей было бы очень интересно жить.
1988, Москва
Я видела, с каким интересом и увлечением Лидия Яковлевна работала над «Троицей». Причем как работала! Подняла всю литературу по «Троице», ходила в Третьяковку, самым тщательнейшим образом разобралась в древней манере письма икон, сама составляла краски, и очень интересно обо всем этом рассказывала. И если ей что-то было интересно, то она в это новое окуналась с головой, могла думать и говорить только об этом. Ее высказывания часто бывали парадоксальны, резки, вызывали у меня активные возражения, мы спорили, мирились, нам было скучно друг без друга.
Лидии Яковлевны давно уже с нами нет, но и сегодня я многое в жизни меряю по ней, часто думаю «а вот что бы Лидия Яковлевна сказала в такой ситуации», как бы она себя чувствовала в нашей новой жизни. Человеком она была заинтересованным, всегда откликалась на любые события, и, если бы она сегодня была с нами, ей было бы очень интересно жить.
ДНЕВНИК
25 марта 1975, Москва
25 марта 1975, Москва
Догадалась, как написать о «Троице». Ни один ангел не должен смотреть ни на зрителей, ни на двух других вместе сидящих. Так шла Татьяна в «Онегине». Догадалась по картине Жилинского «Поэзия», повторившего композицию «Татьяны».
ПИСЬМА К М. ДУММЕР
26 августа 1975, Москва
26 августа 1975, Москва
(…) Нет врача, который бы не удивлялся, почему я еще жива. Я позвонила Д. Шмаринову о персональной выставке. Он сказал: «Лида! Я сам об этом думал». А потом несколько раз говорил мне и друзьям: «Я обязательно устрою Лиде персональную выставку». Я сказала: «Через два года». Он: «Нет, через год». Мы все смертны. Галя Шмаринова лежит в больнице (…) Дема болен сам, сам приносит и готовит себе пищу, ежедневно ездит к Гале в больницу, это в 20 км от Москвы.
Все дневные часы я еще не пишу, а уточняю абрис «Троицы» и всю ее соскоблила, накладывая точные графьи. Оригинала нет. Есть следы его работы в разные годы в различных монастырях, фрески, иконы, летописные источники + иконография, уходящая за пределы египетской цивилизации, давным-давно вымершей. По замыслу это единственный русский гений эпохи Возрождения на стыке последней четверти XIV — первой трети XV века. Старовер, ставший при Петре раскольником.
Все дневные часы я еще не пишу, а уточняю абрис «Троицы» и всю ее соскоблила, накладывая точные графьи. Оригинала нет. Есть следы его работы в разные годы в различных монастырях, фрески, иконы, летописные источники + иконография, уходящая за пределы египетской цивилизации, давным-давно вымершей. По замыслу это единственный русский гений эпохи Возрождения на стыке последней четверти XIV — первой трети XV века. Старовер, ставший при Петре раскольником.
27 октября 1975, Москва
(…) вчера у меня была мой доктор. Никак сбить давление не может — 200 на 110… Я не боюсь одиночества, но боюсь паралича.
ЗАПИСКИ ВНУКУ А. КИБРИКУ
8 марта 1976, Москва
8 марта 1976, Москва
Дорогой Адинька!
Ты действительно прихлопнул меня «мужским натюрмортом»! Мухамед Али! Великолепный натюрморт! Полное уничтожение бедных нас. Второго такого не будет. Повешу на стенку и буду смотреть, как ты бьешь в эти страшные вещи.
Спасибо за фотокарточки. Я тебя очень люблю и очень без тебя скучаю.
Твоя бабушка.
Ты действительно прихлопнул меня «мужским натюрмортом»! Мухамед Али! Великолепный натюрморт! Полное уничтожение бедных нас. Второго такого не будет. Повешу на стенку и буду смотреть, как ты бьешь в эти страшные вещи.
Спасибо за фотокарточки. Я тебя очень люблю и очень без тебя скучаю.
Твоя бабушка.
18 сентября 1976, Москва
А знаешь, что самое главное в жизни? Никогда ничего не бояться. Если живешь без страха, то сразу становишься бессмертным и спокойным. Наша жизнь это испытание себя на прочность и упругость и гибкость. А дается это только: работать по слабым местам. Где слабее, там и подтягивай. Я Сибирь полюбила в эвакуации. Самые тяжело прожитые годы… И потому самые счастливые. Вот я поболтала с тобой, не отнимая твоего времени.
Половина третьего ночи. Пятница 1976.
Ты мне не отвечай, это старческое бормотанье, только тогда мне будет весело и свободно.
Половина третьего ночи. Пятница 1976.
Ты мне не отвечай, это старческое бормотанье, только тогда мне будет весело и свободно.
Отдельная запись
6 ноября 1976, Москва
6 ноября 1976, Москва
…Четыре часа утра. Продолжаю сидеть. Вот взяла бумагу и вспоминаю: бороденка трясется, щи хлебает, а головы не видно. Это Малевич из ГИНХУКа. Народная сказка на всех языках мира. Такая же, как «на березе висело мочало — не начать ли сказку сначала?» Опоздав на поезд, бежать за ним всю жизнь…
(…) А сейчас рвется сердце. Кто-то его разрывает, и мне больно (…) Спазмы в аорте? Наверное, последний год. В смерти все равны. Почему так боялся смерти А. Чехов? Разве это талантливо?
А как здорово описал А. Пушкин въезд Кукольника на бал в Дворянском собрании «в рваном драндулете и рваной одежде».
(…) Одна Галя Загоскина увидела, что по фотографиям я везде драматична, ни одной улыбки за всю жизнь, а из-под руки все гармоничное, спокойное, постоянное. А почему? Не знаю…
(…) А сейчас рвется сердце. Кто-то его разрывает, и мне больно (…) Спазмы в аорте? Наверное, последний год. В смерти все равны. Почему так боялся смерти А. Чехов? Разве это талантливо?
А как здорово описал А. Пушкин въезд Кукольника на бал в Дворянском собрании «в рваном драндулете и рваной одежде».
(…) Одна Галя Загоскина увидела, что по фотографиям я везде драматична, ни одной улыбки за всю жизнь, а из-под руки все гармоничное, спокойное, постоянное. А почему? Не знаю…

А.Е. Кибрик
сын Лидии Тимошенко
Шел не последний год, а последний месяц. 25 декабря 1976 года мамы не стало.
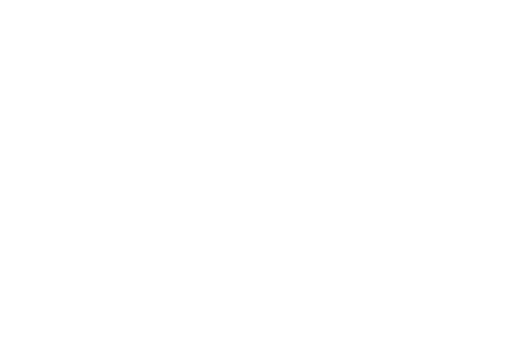
Из последних фотографий Лидии Тимошенко
“
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Д.А. ШМАРИНОВА
И в комнате, где она умерла, осталась покрытая левкасом липовая доска с нанесенным на ней контуром и подобранными рядом красками, в общем, как некая могильная плита, но такая светлая, прозрачная и полная какого-то жизненного утверждения. Вот эта ясность и чистое восприятие мира, цветовое и поэтическое его видение, ритм, жизнеутверждающее начало — таково творчество Лидии Яковлевны, вот то, что она внесла в наше советское искусство.
И в комнате, где она умерла, осталась покрытая левкасом липовая доска с нанесенным на ней контуром и подобранными рядом красками, в общем, как некая могильная плита, но такая светлая, прозрачная и полная какого-то жизненного утверждения. Вот эта ясность и чистое восприятие мира, цветовое и поэтическое его видение, ритм, жизнеутверждающее начало — таково творчество Лидии Яковлевны, вот то, что она внесла в наше советское искусство.

А.Е. Кибрик
сын Лидии Тимошенко
Для Лидии Тимошенко, страстно любившей жизнь, жизнь была нужна для того, чтобы служить искусству. И между жизнью художника и жизнью его работ она безоговорочно предпочитала последнюю. Вот ее слова, написанные за четыре года до смерти и вложенные в специальный для этого случая конверт.
Письмо в отдельном конверте
18 сентября 1972, Москва
18 сентября 1972, Москва
Широко раскрытые глаза. Сверкание окружающего мира. Деревья гнутся, листья нервно трепещут. Летят тучи, дождит. Понедельник. Утро 18 сентября. Сегодня я родилась. Мне 69 лет. Долгая, напряженная жизнь. Ночь, проведенная в жестокой схватке с несуществующим «ничто», живущим в сознании каждого человека, «ничто» — отмежевывающим человека от всего.
Саша! Труды твоей мамы помогут сохранить и посеять всем людям в вечное пользование — друзья. Все, что так долго лежало похороненным — воскреснет. Я родилась, жила, а весть о близкой смерти — весть о долгожданном рождении — от посланцев из поликлиники художников (…) получена. Радостно, любовно ее принимаю (…)
Саша! Труды твоей мамы помогут сохранить и посеять всем людям в вечное пользование — друзья. Все, что так долго лежало похороненным — воскреснет. Я родилась, жила, а весть о близкой смерти — весть о долгожданном рождении — от посланцев из поликлиники художников (…) получена. Радостно, любовно ее принимаю (…)

А.Е. Кибрик
сын Лидии Тимошенко
Это «долгожданное рождение» постепенно совершается на наших глазах. Через несколько дней после маминой смерти секретариатом Союза художников СССР было принято решение о проведении ее персональной выставки. Эта выставка состоялась в 1981 году в Москве, а затем и других городах страны. Около ста ее работ получили постоянную прописку в центральных и периферийных музеях.
А сейчас, с этой книгой, открывается вторая жизнь художницы и мыслителя Лидии Тимошенко, время и пространство утрачивает власть над ней, она становится всеобщим достоянием. Ее предсказание сбывается.
А сейчас, с этой книгой, открывается вторая жизнь художницы и мыслителя Лидии Тимошенко, время и пространство утрачивает власть над ней, она становится всеобщим достоянием. Ее предсказание сбывается.
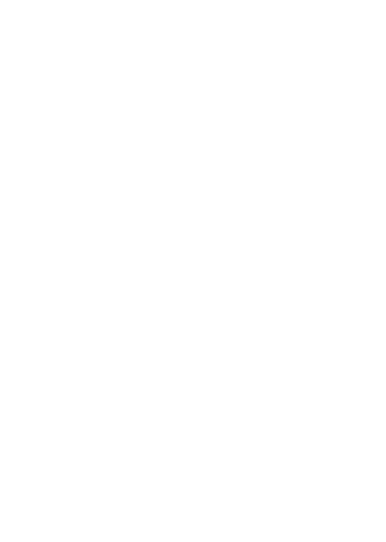
Из последних фотографий Лидии Тимошенко


